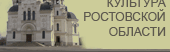
Зеленые тайны (Анатолии Иващенко)

Зеленые тайны
Вечером в сумерках Разбойный курган за станицей на левом берегу Дона казался таинственным, страшным. Говорили, что разбойники давно-давно закопали там клад и не вернулись за ним потому, что погибли на море, когда поплыли в набег на Турцию. Одни объясняли, что тот клад почему-то "не дается", а другие, что "взять" его можно только на заре, в том месте, где кончается тень от кургана.
Нам, конечно, хотелось откопать клад. Только вот как?.. Я думал тогда, что за курганом земли уже нет и там все кончается обрывом. Вдруг ночью не заметишь край и упадешь?! Но Сашка, мой верный друг, придумал: "Давай, говорит, свяжемся веревкой. Если один сорвется, другой вытащит".
Собрались копать в первый же выходной, как только потеплеет. Слово - закон.
Когда я потихоньку звякнул Сашке по "телефону" - банка консервная, а в ней гайка, и веревка к нашему забору,- Сашка уже ждал сигнала и сразу вылез через окно в сад. Страшно было идти ночью, хоть мы и связались. Особенно по дырявому мосту через речку и около озера.
Пришли под курган еще затемно, ждем солнца и смотрим на луг. Его весь затянуло туманом. Там спали лошади. Не так, как мы, а стоя. И еще они клали друг другу головы на шеи. Ноги лошадей были размыты туманом, и казалось, что и лошади, и верхушки стогов плывут по воде. Потом взошло солнце, большое- большое и очень красное. Совсем не такое, как в станице. На него сначала можно было даже смотреть.
Но тут мы с Сашкой на заветном месте, где кончалась тень от кургана, налегли на лопаты. И копали, пока стало жарко. На ладонях у меня вздулись пузыри. Я сказал, что если бы взяли варежки, то докопались бы. Но тут у Сашки поломалась лопата, и он сказал:
- Влетит.
Мы собрались домой и как глянули, а полей за курганом еще много-много и нет никакого обрыва. За полями около самого неба темнел лес. До него было далеко-далеко, наверное, и за день не дойдешь.
Дома Сашкин дед за лопату нас не ругал, а дал свой топор и сказал, что ручку надо хорошо стесать и заклинить коротким гвоздем. Мы тесали и расспрашивали про клад. Оказывается, мы копали не там и слишком глубоко. Дед говорил:
- Клады в нашей земле лежат мелко, сантиметрах всего в шести, от силы в семи.
Мы переглянулись, но не поняли ничего. Тогда он повел нас в огород. Присел на корточки и рукой разгреб землю вокруг ростка с двумя листочками.
- Это,- говорит,- подсолнух. Росток в земле белый, а на конце его, видите, шелуха осталась. А было семя. Это и есть клад кладов. В земле с ним свершается великое таинство, до конца никем еще не разгаданное. Оно еще сложнее, чем любая машина.
Мы в это, конечно, не поверили. А Сашкин дедушка задумался и говорит:
- Вот эти маленькие корешки - насосы. Да, да! Они качают из земли воду. И не только. Знаете, какие цветы у подсолнуха?
- Ну, большие. Крутятся и на солнце смотрят.
- Я не про размер! Желтые цветы. Значит, от черной земли, солнца и воздуха подсолнух должен взять и желтую краску для лепестков, и масло для семян. Вы знаете это?
- Нет.
- А самые вкусные плоды - будь то вишни или яблоки - знаете какие? Не те, что вы таскаете из чужих садов. А те, что выращены своими руками.- Тут он помолчал, потом вздохнул и добавил: - Ну а насчет клада... клада в кургане нет. Точно знаю.
- Копали? - спросили мы сразу вдвоем.
- Копал, - кивнул старик. - А потом занялся теми кладами, что лежат мелко.
Прав оказался Сашкин дед, хоть, признаться, мы с Сашкой на курган ходили копать еще раз пять. Клада не нашли, зато уже осенью открыли, как спят на привале журавли.

Они сидели посередине большого луга большущей стаей, а в середине стоял один журавль и зорко смотрел по сторонам. Дежурный! И стоял он на одной ноге, чтобы, наверное, не уснуть. Потом, смотрим, в когтях у него что-то красное. Тут журавль перестал озираться, стоит неподвижно, а нога опускается, опускается... Задремал. Потом из лапки выпал камень.
Журавль встрепенулся, курлыкнул. Наверное, сказал, что ничего нет опасного. Подобрал камень и снова поджал ногу. Выходит, он держал его нарочно, если выпадет, чтобы сразу проснуться. И камень тот они принесли с собой, потому что в наших местах таких нет.
Мы решили подобраться и посмотреть на часового вблизи, но только вышли на чистое место, как он тревожно закурлыкал и стая снялась. Она была такая большая, что почти закрыла все небо.
Больше клад на Разбойном кургане мы не искали. Переключились на рыбалку. Эх, как вкусны они были, те малые окунишки из мельничного затона! Придешь домой, сам чистишь их, чтобы мать не отдала кошке. Сидишь за столом, ждешь, пока они изжарятся. А спать хочется, глаза слипаются, и перед ними встает сладкое видение - поплавок начинает подрагивать, на воде расходятся круги. В ушах звенит лягушиный гомон. Поплавок стремительно ведет в сторону, рвешь камышовое удилище. И - просыпаешься, ударясь лбом о стол.
Было, было...
Иногда с нами ходил на затон и Сашкин дед. Он учил нас все замечать, чтобы мы узнали зеленые тайны земли.
- Разное растение сажать надо в разный срок. Теперь-то это легко определить. И термометры есть, и другие приборы. Скоро вы их в школе проходить будете,- неторопливо говорил он, раскидывая удочки,- а когда-то приходилось людям на примету надеяться да на разные знаки.
Я полез в ведерко - одна земля. Черви кончились. Надо подкопать. Вогнал в землю Сашкину лопату и уже хотел вывернуть пласт, а старик говорит:
- Не надо, ты вот так: постучи по держаку, и все.
Я постучал. Смотрю - из сухой земли сквозь травяной мусор черви сами лезут наверх.
- Почему?! - спрашиваю.
- Это они "думают", что крот ползет, и убегают,- усмехнулся дед. - Интересно?
Клев кончился. Начинало припекать, а ведерки были почти пусты: ну разве что кошке...
- Так и быть,- сказал дед,- пойдемте, я покажу вам свое запасное место. Там всегда берет. Только за это вы должны мне отплатить. Как? Семена поможете перебирать.
Мы перебирали потом семена и сажали отборные зерна в питомники. Тут и пшеница, и ячмень рассаживались у него редко, рядами, на небольших грядках. И каждое утро первым делом бежали посмотреть на них. Нам хотелось укараулить тот момент, когда будет вылезать росток.
Но все-таки не уследили. В одно утро по грядкам, как на елке, засветились зеленые огоньки. И на них дрожали крохотные капельки росы. И от каждой капли разбегались разноцветные лучики.
Сашка говорил:
- Видишь наш хлеб? Теперь не пропустить бы, когда зацветет. Придется дежурить по очереди. И чтоб не заснуть, знаешь, давай камень держать. Как тот журавль. А обед отцу пусть носит Наташка.
...С тех пор прошло много лет. Мой друг давно стал селекционером на опытной станции. Когда приезжаю, он ведет меня показывать свои сорта. И очень жалеет, что каждый опыт требует целого года, а так много надо успеть.
Он "успел" уже много. Может, потому, что еще тогда не я, а он подкараулил цветение. Потом Сашка стал у нас бригадиром школьной опытной бригады. Сажал какие-то невиданные дыни и розы, прививал яблони. А мне казалось, что они могут и так, без прививки, что лишняя прополка ничего не даст. Я говорил: "Не зарастает же, зачем?.."
Наверное, от этого я "успел" меньше, и его яблоки были вкуснее моих.
Александр вернулся в станицу, когда она была разбита, и привез с собой полмешка пшеницы, над которой начал работу еще до войны. Землю пахал старым плугом и запрягал коров - ни лошади, ни трактора не было.
Мы не виделись много лет. Но однажды дорога завела меня в те места. После встречи с Александром я улетал на самолете. Был июль. И пока землю не закрыли облака, она вся лежала захлестнутая желтым, чуть красноватым пшеничным половодьем.
И я узнавал - его пшеница. По всей земле.
КРУГЛЫЕ ЧАСЫ НА ПОЧТЕ
Эта улица в небольшом степном городе кончается вокзалом, когда уезжаешь. И начинается им, когда возвращаешься...
Сергей неторопливо сошел по вагонным ступеням, опустил на перрон тяжелый чемодан с наклейками далеких отелей и обрывками самолетных ярлыков. Огляделся вокруг, хотя телеграммы не посылал и знал, что встретить его не придут. Вполголоса самому себе сказал со вздохом: "Дома!!!"
На него с недоумением поглядел поверх очков небритый дядька с мешком. Мешок был перекинут за спину, и в нем визжал поросенок. В руке дядька держал корзину, из которой картинно вытянул шею гусь. Обладатель живности философски заметил :
- Коловорот человеков есть суть, но не суета.
Сергею вспомнилось совсем недавнее: Ханко, серая кромка Балтики, низкие серые облака и - в резком боковом свете - мемориал погибшим морякам. Надписи на русском, финском и шведском языках... Не наши цветы клали они там на чужие камни. Ветер рвал траурную мелодию. А поодаль жидкой толпой стояли туристы. Длинноногие, стройные девушки в шортах, с длинными белыми волосами, раскинутыми на плечах, в темных очках-фильтрах; парни в грубых свитерах, старухи с немыми, похожими на игрушечные собаками. Туристы смотрели и не понимали: почему эти суровые русские плачут?
...Перрон пустел. Сергей все еще стоял у чемодана и выглядел совсем нездешним. Былая смуглость уже едва проглядывала сквозь розовинку щек, виски тронуты клочьями седины. Большие руки стали совсем белыми. От дедов-пахарей оставались лишь толстые пальцы с короткими, жесткими ногтями. Высокий лоб, задумчивые, по-юношески серые глаза, глубокий шрам над левой бровью. Такие лица легко запоминаются, но по ним никогда не узнаешь, ни сколько лет этому человеку, ни его характера, ни профессии.
Только в маленьких городках люди ходят на вокзал просто так встречать поезда. И точно знают, впервые ли вы приехали сюда. О Сергее подумали, что впервые: он не был здесь давно. Поднял чемодан и услышал за спиной разговор:
- Кажется, артист. Где же я его видела?..
- Нет, в район ждут какого-то академика по винограду. Наверное, он и есть.
- Академики старые, а этот не очень. Военный, сразу видно.
- Или тренер. Бровь разбитая. Боксер, наверное.
Сергей прошел через зал ожидания на площадь. Удивился: автобусы, такси. Раньше ничего этого не было. Пошел по Ленинской пешком, как ходил всегда, приезжая домой.
Против почты остановился. Поставил на тротуар чемодан. Латанный цементом камень был побит. Сергей закрыл глаза. Потом посмотрел на круглые почтовые часы, скользнул глазами по стене в поисках следов от осколков. Вспомнилось лето 42-го, школьные каникулы... Шквальный налет германских "юнкерсов": вот здесь, у тротуара, взорвалась бомба. Часы остановились. На них потом приходили смотреть. Взрывом зажгло автобус с бойцами. Обгорелые, они лежали на мостовой. Часы засекли миг их смерти.
Часы и обгорелые трупы, прикрытые обрывками черного брезента,- это было первое страшное потрясение в жизни Сергея. Это было рано утром. А вечером почти всем классом они сидели здесь в аллее и договаривались ехать в колхоз на уборку хлеба. Но уехать не пришлось. Утром они налетели снова. "Юнкерсы" зашли со стороны солнца. Слышался только рев моторов, вой бомб, тревожные гудки паровозов.

Мать хотела выскочить на улицу, Сергей бросился к двери, впился в ручку и не пустил. Уже гремели взрывы. Дом подпрыгнул, вылетели окна, покатились по полу цветочные горшки. Дым, гарь...
А он все держал рвущуюся из рук дверь.
Когда взрывы откатились, выбежал на улицу. Было полутемно. На станции рвались цистерны и всплескивались к небу каскады огня. Со столбов свисали оборванные провода, по всей улице валялись буханки хлеба из разбитой хлебовозки, корзинки, с которыми хозяйки шли на рынок. У калитки на акации висели патефонная крышка и учебник алгебры. Вместо дома напротив дымилась воронка.
Так и шел он среди огня и воронок, пока не стал, окаменев, под замершими часами у почты на Ленинской.
"Во сколько же это случилось? В шесть? В половине седьмого?" - думал Сергей, глядя на те же часы.
Камень хранил следы, а час уже потерялся в памяти.
В эти дни будут у Сергея встречи с родней, перемешаются на столе домашнее вино с заморским привозным, будет много разговоров, пойдет он на кладбище сбить лопатой траву забвения с могил отца и дедов. Но особой останется встреча с Ленинской.
В одиночестве он не раз промерит улицу из края в край и всякий раз будет останавливаться у тех часов, где в клубах дыма стоял он голенастым мальчишкой в синих линялых трусах и не знал, что в это утро оборвалось его детство. Как не знал, что не скоро суждено было стрелкам часов стронуться с места... Юность тоже отодвинулась в неведомые годы.
"Названа так, значит, в честь вождя революции, дорогого нашего Ильича" - вот, собственно, и все, что узнали мы мальчишками от отцов про главную нашу улицу. Ходили по ней в праздники на демонстрации. У памятника Ленину были митинги.
Места эти исстари считались глухими. Железная дорога в одну колею, станции с несуразными названиями - Злодейская, Верблюд... И только иные станицы свидетельствовали о причастности к российской истории - Платовская, Великокняжеская... Хотя ни великие князья, ни атаман Платов сюда никогда не наезжали, и дела их вели управители.
Вся эта Сальская степь славилась пшеницами, калмыцким скотом, шерстью и салом. Последнее ни к названию степи, ни к названию города отношения не имело. Все шло от реки Сал.
Когда закипела гражданская, казак Платовской станицы георгиевский кавалер Семен Буденный сколотил отряд, выросший в знаменитую Первую Конную. Тут же сколачивалась и деникинщина. Ничего промежуточного не было, только два цвета - красный и белый.
Чтоб понятней было, куда ведут линию большевики, уверовал степной люд, "что Ленин ихний как есть сам казак и рождением из Великокняжеской станицы Сальского округа". Воронцово-николаевские мужики - воевать так воевать - задумали организоваться в особую Советскую Республику. Были у них свои комиссары связи, военных дел, железных дорог... Предлагалось даже выпустить свои деньги, чтоб не таскать на базар и с базара мешками керенки и не платить за коробок спичек миллион.
Горячие головы поостыли только тогда, когда убедились, что не автономией надо драться с контрой. После IV Чрезвычайного Всероссийского съезда, делегатом которого был фронтовой боец Алексей Чуб, великокняжеские мужики отгрузили голодной Москве транспорт с зерном, мукой и солью, которую брали из пересохших озер и манычских лиманов.
Когда белые отрезали юг России и над революцией нависла смертельная опасность, Алексею Чубу пришлось опять пробиваться в Москву окружными путями, просить у Ленина оружие, обмундирование, деньги, медикаменты на борьбу с Деникиным.
Это уже потом, отвоевавшись, отцы опять взялись пахать-сеять. Отстроили из камня одну-единственную улицу. Строили ее с размахом, и хоть выше двух этажей в небо не лезли, а дома казались громадами. Из-за той улицы, можно сказать, из поселка, выросли в городской чин. Улицу, которая продолжала Ленинскую и шла через село Коронцовка, назвали распространенным тогда именем Смычка. Что означало смыкание города с селом.
В праздники отцы собирались большими и шумными компаниями. Гордясь друг перед другом, заставляли детвору читать школьные стишки и петь песни. Но по большей части испытывали в науках.
- А скажи-ка, Серега, - крутил ус бывший отцовский командир эскадрона, - сколько будет, ежели сложить шесть тыщ девять сотен сорок три и десять тыщ три сотни двадцать да поделить на столько, сколько нас тут сидит за столом, - девятнадцать душ? - И поворачивался к отцу: - Как, Петрович, могет?
- Могет,- басил отец.
Сережка бойко складывал, делил
и сыпал ответами. Эскадронный гладил его вихры ладошкой-лопатой и хвалил:
- Башковитые, стервецы, растут. По университетам пойдут не худе купецких вылупков. Вот этими грабками дорогу вам туда прорубаем,- вытягивал он руки.- А иначе до веку крутили бы быкам хвосты. Токо с жиру не забувайте, какими кровями умылась Совецка власть.
И вот то утро с бомбежкой... Отцы уже год как ушли на фронт. Все до единого!.. Сережкин отец, раненный на Сиваше в руки и ноги, лежал в госпитале где-то в Махачкале. Уже были тревоги, уже бегали с уроков в бомбоубежище. Но только в это утро время для Сергея взорвалось, сместилось назад... И ему показалось, что это еще идет гражданская, гремит Перекоп, Царицын, Каховка...
В августе 42-го война подкатилась и сюда. Немцы рвались к Сталинграду. Фронт то и дело рвался на части. Брели понуро колонны отступающих, надсадно ревели в бреющем полете "юнкерсы" с крестами. Военкомат в армию ребят не брал. Кинулись в беженцы... Но уже на другой день узнали, что фашисты далеко впереди. Пришлось возвращаться.
На райисполкоме уже висела зловещая вывеска "Ортскомендантюр". От памятника Ленину остался только пьедестал. Тут же были гестапо, полиция...
Поначалу целыми днями, чтоб не погнали на биржу труда, отлеживались у речки. Когда заходило солнце, через дворы пробирались друг к другу. Говорили об одном: как быть дальше? Школьный комсорг Андрюшка Меднов один раз сказал, что приходила к нему незнакомая женщина, оставленная для подпольной работы, и говорила, что надо организовываться. Андрюха явно сочинял: женщину приплел для убедительности. Сережка сделал вид, что верит, и ответил коротко:
- Давай, раз надо. Только где партизанить, если у нас ни лесов, ни болот?
- Можно работать в городе.
По одному обходили самых верных дружков, шушукались, чтоб не слыхали матери, обижались на пионервожатого Лешку Шамрина, когда тот произносил длинные речи о конспирации. Провели комсомольские собрания. Одно, другое... Выдали подпольщикам комсомольские билеты из плотного ватмана, где вместо настоящих фамилий писались клички: их брали из "Войны и мира". Сережке досталась "Берг".
Листовки писали на окраине в путевой железнодорожной будке, где работала мать Ольги Терновой из 10 "А". Писали до света, а потом, полуголодных и холодных, Ольгина мать кормила их солеными огурцами и липким хлебом из картофельных очисток и отрубей.
Дальше - больше. Портили по ночам грузовики, начали поворовывать оружие, чтоб пробиться к фронту. Но фронт уже стремительно близился сюда.
Братва военной поры... Зеленой шла она в бой. Сережка молил, боясь оскандалиться:
- Мама, прошу об одном: когда будут провожать, не плачь.
Мать понимала. Не плакала.
Четыре раза ранило Сергея за войну. Один раз на рассвете явился он домой после боя с четырьмя тоже ранеными танкистами.
...Госпиталь был на Ленинской. Теперешний Сергей постоял у входа в здание, где расположился техникум механизации сельского хозяйства. Поднялся с гурьбой студентов на второй этаж, приоткрыл дверь в аудиторию. Идет лекция. Тогда здесь была операционная. Тут у него из локтя выбирали осколки.
Дошел до угла улицы. Внизу - магазин. Дощатая лестница привела наверх, к узкой двери. Здесь была Сережкина палата. Отсюда с перевязанной рукой ходил он в свою школу, в свой класс. Одни девчонки... Сидел на уроке, смотрел на доску и ничего не понимал.
Опять вокзал. Провожали девчонки из класса. И была Она. Что делать - две белые косы до пояса, синие глаза... И снова:
- Мама, об одном прошу...
Мать не плакала на вокзале. Она плакала с Нею, когда поезд уходил.
Первая любовь... Она, наверное, для того и есть, чтобы поломать человеку душу и потом, уже с зарубцованными ранами, привести к другой. А если те первые раны сквозные? Как тогда?..
Он получал от нее письма с цветком, вышитым в уголке. Душа пела. Носил под стекляшкой на ручке боевого ножа ее талисман: черного нитяного чертенка с хвостом и рожками. Отвечал же сдержанно, будто парню.
...Сергей подошел к старому клену, где была у него самая первая встреча с Нею. Погладил шершавую кору. Нет, клен не показался ему маленьким. Он стал еще больше, еще раскидистей и шумел, шумел листвой под ветром. Память услужливо воскрешала все, что лучше забыть бы навсегда. Как после Победы, измученный, усталый, вернулся домой и не знал, что с собой делать. Как проездом на каникулы Она приезжала сюда.
Всю ночь проходили они по аллеям на Ленинской, но он так и не сказал ни одного из приготовленных и давно обдуманных слов. Больше они не виделись никогда.
Но и сегодня Сергей, стоя у клена, чувствовал, что за все эти долгие годы сердце не расплеснуло ни капли той первой любви. Для другой там не осталось и живой клеточки. Да, таков удел сильных. И только они способны нести в себе эти беды через всю жизнь.
Но от скольких других бед спасала она его!
Он яростно наваливался на учебники, часами растягивал на турнике рубцы исполосованного тела. Старый математик, их классный руководитель в вечерней школе Аммос Евстафьевич Хухлаев знал все о каждом из своих мальчишек в гимнастерках. Он каждый день, не давая передыха, вызывал Сергея к доске.
Боевая моя братва, о скольких ранах не знают теперешние ваши жены, ваши большие уже дети!.. И не надо.
...Потерянный, шел Сергей от клена. Устало опустился на скамейку, закурил. В аллее возилась детвора. Двое мальчишек глазели на скворечню. Там пищали скворчата. Уже оперенные, они неумело махали крылышками, плюхались на ветки. Но упрямо учились летать. "Так вот и они,- думал Сергей о детворе,- будут все чаще улетать из дому. С каждым разом все реже будут возвращаться. И другие камни им напомнят о другом".
Он много колесил по свету. Моряком, как хотелось, не стал. Стал инженером-электроником.
Долго в первые годы шумел на ученых советах, ругался в московских главках: "Нужны новые идеи, другие организационные принципы..." А потом обязанность решать все это и нести ответственность навалили на него самого. И поутих.
Раньше часу ночи домой выбраться уже не мог. Жене говорил:
- Погоди, сколочу новый отдел из молодой братвы, все вернется в свою колею. Опять рванемся вверх.
...А скворчата оголтело прыгали по веткам. Одного свалившегося мальчишка подхватил в ладони, подошел к Сергею.
- Дядя, хотите, дам птенца?
- Дай.
Теплый комочек грел руку, было слышно, как бьется скворчиное сердце.
- А теперь смотри,- Сергей распрямил ладонь, отвел локоть и косо, вверх подбросил птенца.
Он летел уверенно, выше, выше. Мальчишка хлопал руками, смеялся и кричал:
- Дядя, еще так! Еще так запустите!
- В другой раз,- сказал Сергей и пошел по Ленинской домой, собираться в дорогу.
ЗАБУРУННОЕ МОРЕ
Солнце ушло за прибрежный перелесок, последними лучами вызолотило белую стрелу обелиска Строителей, островерхие крыши в городке энергетиков, и день начал угасать. Навстречу прохладе, весь день закрытые, на казачьей стороне распахнулись ставни. Красные, синие, зеленые...
Подняв розоватую пыль, широкой улицей с выгона потянулось стадо. Коровы так привычно брели на сладковатые запахи вечерних домов, словно эти улицы и проулки были здесь от века, и не верилось, что еще недавно по всему угору здесь лежала пустошь и цимлянды трижды митинговали: переселяться или нет станице на крутояр?..
На старом месте тогда кудрявились по займищу вербы, вилась среди них лента Дона, сверкали озерца. Мальчишки ходили туда с корзинами брать линей и сазанов. По нынешней дороге вдоль яра перед праздниками станичники возили в Задонье свое цимлянское вино. А неподалеку от дороги лежали развалины древнего града с таинственным именем Саркел...
Нет больше ни того займища, ни озер... Все скрыто водой. Тихо, пусто.
Темнеет. И тут вспыхивают на плотине тысячи огней, поднимается над водами высокое зарево. Но тишина все равно гнетет. Гнетет потому, что из памяти не уходит стройка. Котлован тогда днем и ночью исторгал неумолчный рев моторов, дробь отбойных молотков, сполохи электросварки. Дорога к нему не выдерживала натиска колес, ее то и дело поливали отработанным машинным маслом. От нее теперь остался только малый кусок. Остался и зарос бурьяном.
Наша гостиница - барак, где даже в коридорах стояли раскладушки, теперь стоит без окон. Никто в ней не живет, никому не нужна...
Я бреду местами, которые звались тогда "правым берегом". Бесцельно продираюсь сквозь заросли к прибрежным камням.
- Никак волокется кто? - окликают меня из-за жесткого куста терновника.
Голос принадлежал старому казаку в ватнике и штанах, вправленных в белые шерстяные носки. На темном лице говорящего и в сумерках виднеются выцветшие брови и усы. Ватник, белеющие у ног удилища, нотки досады в голосе изобличали в нем завзятого рыбака: видно, пришел на берег с намерением "схватить зорьку" и вечернюю и утреннюю.
Разговор в таких случаях не клеится, и проходящему прозрачно намекают, что он хоть и второй, да лишний. Но рыбак пригласил меня сесть, и отнюдь не из желания пугать шумом рыбу. Его задел за живое обидный вопрос: "А что, и по станицам Цимлянское водохранилище называют морем? Или это для интереса пишется?"
- Этто, то есть как?! - пробурчал рыбак.- Этто, может, еще запрудой обзовешь? Шалишь. Положим, в океаны чином не вышло, а море как надо. По всем статьям. Почище Азовского. Тут даже ученые моряки есть. Поначалу в море на острове обитали, а потом в Цимле целый дом заняли. Изучают течения, всякую живность. Стоп! Вот погляди сам.
Казак ткнул пальцем в направлении воды и распорядился:
- Считай от той волны до девятой. Ба-альная будет. Небось слыхал про девятый вал?
То ли я просчитался, то ли не увидел разницы в волнах, но рыбак сказал, что сейчас все волны идут крупно, и сосредоточил внимание на своей замысловатой снасти. Он смотрел на нее и тихо шептал:
- Нет! Ты гляди, гляди, как балует море-то. Ну, теперь взыграет! Вишь, вишь!.. Вскипает. Этто, мил человек, толк надо понимать в морях.
Он приложил палец к губам, замолк и приготовился подсекать.
- Сейчас мы тебя, касатик, пристегнем. Вот сомика бы, сомика... Нет! Мелочишка гуляет.
Казак уселся поудобней. Под его вислыми усами угадывалась усмешка.
- А указ насчет нашего моря слыхать не доводилось?- спросил он, готовясь, видимо, привести какой-то веский довод.- То-то, что не знаешь. Страсть, что зимой тут стряслось. Зима, она теплая вышла, лед скоренько взломало. Ну, дело рыбацкое, начали ловить. У плотины лед крепкий держался, с него рыбачили. Один раз под вечер море вот так же начало баловать. Оторвало целое поле и погнало от берега. А на льду-то семеро рыбаков новосоленовских. Ну, прямо-таки как на Балтике или где- то в Ледовитом океане. Дела!
Сбежался народ. Все охают, ахают, бабы голосят: "Погибнут мужики". А как поможешь?!
Прибежали на плотину два парнишки - Юрка Асташенко и Володька Кучинский. Один в Ново-Соленом слесарил, другой - десятиклассник. Единым духом смотались они в милицию, подняли тревогу. Назад вернулись на машине и при двух лодках. Столкнули лодки на воду, смотрят, а весел нету.

Выходило дальше по рассказу, что ребята вместо весел орудовали лопатами. Потом одному из них пришлось все время вычерпывать воду, другую лодку, в которой сидел младший лейтенант милиции Дубровин, тоже захлестывали волны. А ветер крепчал и крепчал...
Вскоре разыгрался шторм. Спасатели пробирались в кромешной тьме. Порой казалось, что пучина уже давно поглотила тщетный зов о помощи и вся экспедиция напрасна. Исход все равно будет один, с тою лишь разницей, что жертв окажется не семь, а десять.
И хоть бы какой сигнал. Нет. Только грохот волн...
Смерзалась одежда, померкло ощущение времени. А как назад? Ведь против ветра. При этой мысли у ребят цепенели руки. Лодку моментально швырнуло в сторону. Секунда слабости чуть не стоила им жизни. Тогда наперекор всему они начали еще яростней грести. Поняли, что только так доберутся к рыбакам, если те семеро еще живы.
- Они там! - крикнул Дубровин.
- Ско-рре-ей!.. Лед трещит,- вплелся в вой ветра истошный вопль.
Это была уже половина победы. Дубровин, пользуясь мигом, когда лодка скользнула с гребня, резко выпрямился и подхватил одного из пострадавших. Два других успели прыгнуть на борта, и суденышко, как скорлупка, пронеслось мимо льдины.
Ребята могли взять лишь двух рыбаков. Но оставалось четверо. Кто согласится ждать?! А вдруг не хватит выдержки? Об этом молча думал каждый. Юрий Асташенко узнал одного из рыбаков. И тот обрадовался голосу знакомого паренька. Как можно властней Юрий крикнул:
- Дядя Саша! Останьтесь. Мы вернемся.
- Добро, сынок... Мы будем жечь спички,- ответил глухим голосом дядя Саша, поддерживая своего ослабевшего товарища.
Когда лодки пристали, по берегу прокатился вздох облегчения. И рыбаков и спасителей кто-то обнимал, целовал. А через минуту берег опять замер. Дубровин, за ним Кучинский с Асташенко ушли в море.
Тщетно высматривали они огонек: последние спички у рыбаков уже размокли, а хриплые голоса уносил ветер. Льдину удалось найти в последнюю минуту, когда через тела людей покатились черные валы. Только сняли рыбаков, как льдина развалилась.
...Казак замолчал и резко рванул лесу. На конце ее ярко сверкнул золотистый кружочек.
- Поспешил. Не успел пристегнуться, - вздохнул рыбак, снова закинул удочку и продолжал: - Люди, те, конечно, оклемались потом. Все живы-здоровы. А потом в газетах указ пропечатан: Дубровину - орден "Знак Почета", хлопцам - военные медали "За отвагу"! Прямо как солдатам. Вот тебе, мил человек, и водохранилище!
Рыбак закурил вторую кряду цигарку и с надеждой сказал:
- Может, на дымок пойдет.
На море лежала плотная вечерняя сумеречь. Далеко-далеко по взъерошенным водам убегала лунная дорожка да по временам в волнах зыбились отражения крупных звезд. Озорные волны уже взмывали на берег, осыпая нас пеной и фонтанами брызг. Ветер дул плотный, с присвистом. Где-то тревожно пробасил невидимый пароход.
- Ой и озорует же! Забурунный характер у него, казачий!..- самозабвенно восклицал рыбак.- Полную силу взяло. Оно, знаешь, еще по первой весне, когда и плотину не закончили, катер выкинуло на бетон, баржу оторвало у гидростанции. Словом, по всей форме действует. А как иначе? Какое же это к тому море, ежели без штормов? Тут, мил человек, как оно расхорохорится, так и не всякий капитан рискует высунуться из порта. Плоты вдрызг расшибает. Волна идет такая, что дну покою нет. Пни, какие остались от порубки, все подняло.
- Стоп!- цыкнул казак.- Вишь, вишь?.. Лесу заводит. Зараз пристегнем...
Он стремительно взметнул руку. Удилище изогнулось дугой, в пене прибоя заклокотал бурун, леса натянулась струной, и к ногам тяжело плюхнулся сазан. Я удивился: под жабрами рыбины поблескивала... шинельная солдатская пуговица. Рыбак подождал, пока поднимется жаберная крышка, и проворно дернул шнур. Пуговица легко выскользнула из сазаньего рта.
- Это называется "на пуговку",- пояснил он.- Тут, вишь, рядом с пуговкой кусочек жмыха. Рыбина его заглотнуть не может: пуговка мешает. Сазан и пропускает ее под жабру. Этим моментом дергаешь, крышка захлопывается, и, "застегнутого", мы его очень даже свободно волокем.
И заметь, крупный. А почему? Потому, что глубь большая. Вот и выходит: рыба ищет, где глубже, а человек, где больше рыбы. Так-то...
Довольный почином, он раскатисто засмеялся и, глядя на пенные буруны, долго вспоминал разные случаи, один интересней другого. А море бурлило, колыхалось лунным серебром, будто тоже рассказывало каменистому берегу свои истории.
- Только скажу тебе, что неуправка с рыбой из-за этой плотины вышла,- вздохнул рыбак.- По весне косяки идут на нерест старыми путями, какими ходили от века. А дорога перегорожена! Видал бы ты, как кидаются осетры на плотину встречь воде. Сердце кровью обливается, когда они плавают потом вверх брюхом. Нельзя же так-то: одно делать, а другое портить. Лампочка над столом хорошо, только на столе и рыба нужна. Ее из железины, мил человек, не выкуешь.
Оно, вишь ли, сделали для них рыбоход, в плотине. Чтоб в самоходные черпаки залезать и таким манером с Дону переправляться в море. Только рыба пока той науки не знает и лезет напролом.
Я уже собрался уходить, когда рыбак остановил меня:
- Погоди момент. Кажись, и выпивку изловим.
Он, не сводя глаз с лунной дорожки, торопливо разулся, стянул рубаху, потом указал мне на поблескивающий неподалеку предмет:
- Бутылка.
- Ну и что? С парохода, наверное, выбросили.
- Может, так, а может, и другое. Море размывает на дне странные клады: казаки когда-то закапывали в землю вино целыми партиями. Некоторым, может, по сто лет... Эх, лезть надо, а то разбить может о камни.
Он полез в воду и скоро, зябко ежась и фыркая, вернулся с бутылкой. Граненой, широкой. Я таких не видал никогда.
- Старинная,- натягивая рубаху, сказал рыбак.
Мы пошли к нему домой вдвоем и долго рассматривали бутылку на свет. Взболтанный осадок медленно опускался на дно. И пока он садился, пока варилась уха, хозяин, жалеючи, рассказывал о затопленных виноградниках, о цимлянском вине. Особенно же о "выморозках".
Делались они из привядшего уже винограда, когда сахаристость достигала высших пределов и сок становился липким. Более того, вино потом заливали в бочки из мягкого дерева и выкатывали на мороз, чтобы оттянуть лишнюю воду. Она вымораживалась, покрывая бочку розоватой ледяной коркой. И после нескольких таких операций получались несравненные "выморозки". Вино становилось густым, концентрировался букет.
- Нету теперь тех виноградников,- говорил со вздохом старик. - Нету! И ничего тут не поделаешь. На черной земле лоза не та, а красноземы затопили.
Уху разлили, когда бутылка светилась уже рубиновым огнем. Вина в ней было только на две трети: за долгие годы оно улетучилось и через плотную пробку. Когда откупорили, бутылка как бы вздохнула и по комнате растекся тончайший аромат, каким уже в заморозки пахнет на винограднике.
- Оно,- пригубив стакан, улыбнулся казак.- "Выморозки".

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'