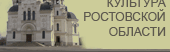
Письма из Ясной Поляны

Письма из Ясной Поляны
Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто...
Я с детства помню народную сказку об Иван-Озере, записанную Львом Толстым. Было, говорится в ней, два сына у старика Ивана: Шат Иваныч да Дон Иваныч. Своенравный Шат был постарше, сильнее, а Дон, меньшой сын, послабее. Жили они поначалу с отцом, да подошло время расстаться - свою судьбу сыновьям пытать. Вывел отец их за околицу, велел слушаться во всем и дорогу каждому указал. Только Шат не послушался отца. Горячий и сильный, рвался он напролом, и - сбился с пути, заблудился в болотах. А Дон Иваныч - тихий и покорный - шел туда, куда отец наказывал, и всю Россию прошел, дорогу к южному морю проторил, стал знатен да славен...
От истоков Дона рукой подать до Ясной Поляны. И сказка сказкой, а похожа на быль. Вытекают, говорят, из Иван-Озера два ручья: один - перешагнуть можно, это - Дон. Другой - широкий и полноводный - Шат. Дон на юг путь держит, а Шат - тот вертится с одной стороны на другую. Шатался он, шатался, да и впал в реку Упу, совсем затерялся, не стало его...
Видел, наверное, исходив окрест Ясной Поляны приметные и неприметные веси, Лев Толстой и Иван-Озеро, и Шат с Доном. Только так и не узнал, что Дон - сам по себе течет, а Иван-Озеро - тоже само по себе плещется и никакого отношения к Дону вовсе не имеет...
"Это почему же?" - спросит дотошный читатель.
Пятнадцать веков назад Геродот писал, что скифская река Танаис (так называли в древности Дон) вытекает из огромного озера. Он, конечно, преувеличивал - Иван-Озеро никогда не было большим: всего каких-то пять или шесть гектаров. Правда, по весне оно и впрямь затопляло всю округу, а сходил снег - озеро мелело. И тогда в тихие лунные ночи слышался будто бы колокольный звон на его берегах - это подавала о себе знак провалившаяся якобы в воду деревушка с церковью. На Дону, оказывается, свой град Китеж был...
Легенда про колокольный звон сложена была недаром. Когда случилось несколько лет назад в этих краях засушливое лето, то обнажилась песчаная коса на Иван-Озере, а на ней - остов древнего храма, монеты старинные и черепки сосудов...
Строго говоря, Иван-Озера сейчас нет. Не подумайте, что оно высохло, нет! Оно стало частью огромного Шатского водохранилища. А Дон давным-давно отгорожен от Иван-Озера железнодорожной дамбой и как прежде тек сам по себе, так и продолжает течь. Никогда не вытекал он из Иван-Озера: реку щедро питают лесные родники.
Откуда же возникла такая версия?
Триста с лишним лет назад Петр I, задумав соединить Волгу с Доном, прорыл канал от Дона к Иван-Озеру. Но лишь одну весну была в этом канале вода, а потом его заилило, зарос он и поныне стоит заброшенным. А все-таки два думных дьяка - Федор Лихачев и Михаил Данилов, - составляя по повелению царя Михаила Федоровича Романова "Книгу, глаголемую Большой Чертеж", отметили: "Река Дон вытекает из Иван-Озера, от Дедилова верст с и потекла под Епифань..." Так и попала ошибка в ученые книги. В русле старинного канала нет сейчас даже лужицы: в иной стороне бьют из-под земли донские родники.
Мне рассказывали, что в Великую Отечественную войну в этих местах оборону держало гвардейское кавалерийское соединение. Генерал, выстроив конников, обратился к ним с такими словами:
- Казаки! Мы стоим на берегах Дона. Ни шагу назад! Защитим наш родной Дон...
Конники, среди которых было много донцов, недоуменно переглянулись. О каком Доне ведет речь их генерал? Разве есть еще один Дон? Не ошибся ли командир?
Нет, генерал был прав...
Шумит листва над родниками, и будто быстрее бежит река через зеленую просеку. Ниже Больших Колодезей Дон уже вырывается на простор и - куда ни поглядишь - стелется до самого окоема неоглядная равнина. Становится он спокойным, задумчивым, тихим, как и пристало степной реке.
В давние времени была в здешних местах вотчина графа Бобринского - его считали внебрачным сыном Екатерины II и Григория Орлова. Императрица-блудница позаботилась о своем отпрыске, отвалив ему поместье с тридцатью тысячами крепостных душ мужского пола, а Павел I дал ему титул графа.
Бобринский-младший был страстным картежником и быстро спустил доставшееся ему наследство. Три своих деревни - Егорьевское, Ивановское и Богдановну - он проиграл в карты известному уральскому заводчику Демидову. Почти две с половиной тысячи мужиков, разлученных с семьями, угнаны были на Урал. С демидовской каторги никто не вернулся, и осиротели заколоченные избы, заросли дворы бурьяном. За околицей, на юру, гнуло к земле тонкие ветлы да воронье кружило над покинутым жильем.
Потом на эту пустошь Аракчеев посадил военных поселенцев. Старожилы расскажут вам про солдата Василия Шабунина, жившего здесь. Стояла будто бы в Озерках рота солдатская, а командовал ею офицеришка - большой охотник до вина и баб. И буяном он был отменным: сам себе и закон и судья. Солдаты роптали втихомолку, но побаивались его. А Шабунин не перенес издевательства - взял да и ударил офицеришку. Предали солдата полевому суду. Весь крестьянский люд в округе тогда взбунтовался, бабы поклоны перед иконами клали, за солдатика молили. А мужики посмелее двинулись в Ясную Поляну просить графа Толстого вступиться за него. Был Шабунину суд, и Лев Николаевич выступал на суде защитником. Только суд не послушал его, приговорил солдата к смерти.
Толстой не успокоился: подал челобитную царю. Но... опоздал. Примчали будто бы стражники царскую депешу о помиловании Шабунина, а его уже казнили.
Так гласит легенда. На деле все было иначе. Не помиловал царь солдата, и зарыли его стражники в степи, как бездомную собаку.
Судьба Василия Шабунина горячо взволновала крестьян. После его казни в округе рассказывали о "солдатике, расстрелянном занапрасну", который будто бы шесть недель перед смертью одной водой питался и псалтырь по себе читал, об огоньках, якобы зажигавшихся каждую ночь на его могиле. "Значит, достоин, раз горят свечи..." - говорили люди. Ночью мужики тайно укатили с хозяйской мельницы жернова и положили на солдатскую могилу. А потом так и повелось: шли крестьяне к вечерне, сворачивали к заветному камню поставить свечу мученику.
А на самого Толстого история Шабунина оказала, по словам писателя, "...гораздо больше влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей".
Три раза я приезжал в Ясную Поляну, и каждый раз, когда осматривал усадьбу великого писателя, признаюсь, меня не покидало такое чувство, что ее хозяин не ушел из нее, а, наоборот, как бы вошел и во все эти тропы и рощи, в замшелые пруды и парки, в неслышное движение речной воды и солнечный свет и, прежде всего, в судьбы людей, которые жили здесь когда-то и живут сейчас. Сколько раз слышал я в этих местах: "Его дуб", "Его роща", "Вот здесь он любил бродить...", "А это место он описал..."
Толстой знал здесь каждое дерево, и сотни их были посажены его руками. И окрестные степи, и парк в Ясной Поляне были для него местом отдыха и местом творчества. Я видел дуб, под могучей кроной которого в "Анне Карениной" пряталась, застигнутая грозой, Кити Щербацкая с ребенком, - дерево уже без коры и кроны, свой век отжило, и теперь его "забальзамировали". Я бродил по парку, и память сердца прокладывала мостики к живым образам и самой Анны, и гордого Андрея Болконского, самобытного Ерошки, прелестной Наташи, старого и мудрого фельдмаршала Кутузова... Толстой и похоронить велел себя в гуще деревьев, посаженных своими руками, "...чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки".
Подарив людям светлую сказку о волшебной палочке с секретом счастья, будто закопанной здесь, Толстой до последних дней оставался верен золотой мечте детства: хранил ее в сердце и всю жизнь искал пути к счастью человечества. Шестьдесят лет прожил он в Ясной Поляне. Из окна его кабинета - святой святых усадьбы - видны неоглядные придонские дали, где-то далеко-далеко за низкими холмами писатель угадывал, наверное, и шабунинскую ниву, когда работал за письменным столом. В этой комнате, у этого окна испытал он ни с чем не сравнимые муки творчества и радости. Мы знаем, как трудно давались гениальному художнику его книги. "Войну и мир" он переписывал пятнадцать раз, а начиная "Анну Каренину", остановился только на двенадцатом варианте; двадцать раз он переделывал портрет Катюши Масло-вой. Писал, сжигая себя в работе и в думах о народной судьбе.
Нет, не пропал без вести шабунинский подвиг, берегут о нем память в верховьях Дона. Стоит у рощи обелиск, на котором высечены слова: "Здесь покоится тело солдата Василия Шабунина, расстрелянного 9 августа 1866 года. Защитником его на судя был Л. Н. Толстой...".
Узкой лентой-ручейком вьется Дон, прячется от дороги за сплошной полосой лозняка и ракит. Трава выше колен, теплая, нагретая солнцем у верхушки, прохладная и сыроватая - у самой земли. Желтые брызги лютиков, плети луговой кашки разбросаны у тропинки. Гудят шмели на солнцепеке, и хитрая трясогузка провожает пешехода настороженным взглядом. Я знал, что где-то неподалеку отсюда, к юго-западу, - тургеневский Бежин луг, и как-то вечером попросил гостеприимных шабунинцев свозить меня туда. Показывали мне остатки водяной мельницы, а ниже старой плотины - тот самый омут, или бучило, где будто бы жили русалки. Перевелись только они давно, вот беда. И в леших никто уже не верит. Нива-то не сказками, а трудом человека кормит. Не было и костра на берегу, и пофыркивающих в темноте лошадей - где-то рядом буднично урчал трактор. А мне все-таки виделись те тургеневские ребятишки с глазенками, полными страха и интереса, внимавшие рассказам о приведениях... Может, те самые ребятишки и азбуку познали в школе, что открыл для них в Ясной Поляне Лев Толстой?
Толстой, конечно, много раз бывал в этих местах, встречался с Тургеневым. В селе Никольском-Вяземском он написал несколько глав "Войны и мира", в Гриневке работал над "Хаджи-Муратом". С селом Покровским связано создание его повести "Поликушка", в Каратаевке же случилась трагедия, послужившая сюжетом для драмы "Власть тьмы"...
А еще раньше, в 1828 году, по пути в Персию, заезжал в расположенное неподалеку отсюда село Спасское-Кривцево А. С. Грибоедов - здесь жила его сестра М. С. Дурново. В другом селе - Хитрово, что в верховьях реки Снежери, до наших дней сохранился домик, в котором жил у родителей друг Пушкина - поэт Дельвиг. Из Хитрово Пушкин получил несколько писем. И сам писал сюда...
Вот сколь много помнят истоки Дона.
* * *
В каких-то двадцати с небольшим верстах от верховьев Дона довелось Толстому и встретить свой смертный час.
Семейная драма, о которой так много говорилось и писалось, была не основным и не единственным поводом для ухода Толстого из Ясной Поляны. Решение, которое принял писатель в ночь на 28 октября 1910 года, вызревало годами и было обусловлено многими причинами. Во всяком случае, покидая на закате жизни родные пенаты, писатель имел твердое намерение туда уже не возвращаться.
Уходя из Ясной Поляны, Толстой оставил в своей спальне на столике раскрытый том Достоевского - "Братья Карамазовы". Как и Достоевского, его мучило страстное беспокойство за судьбу человека, сдавленного тисками общества несправедливости и неравенства, мечущегося в поисках нравственного идеала.
Станция Лев Толстой - прежде она называлась Астапово... Над платформой - часы в старинном футляре. Они показывают пять минут седьмого. Такими они были, когда Толстой вошел 31 октября в помещение станции. Часы навсегда остановились, когда писатель окончил свой жизненный путь.
От платформы - сто шагов до домика с оцинкованной металлической доской: "Здесь скончался Лев Николаевич Толстой 7 ноября 1910 года". Быть может, это была первая в России мемориальная доска, посвященная памяти писателя. Все в этом маленьком домике осталось таким, как в тот день, - обои с желтыми и зелеными листочками, шторы на окнах, кровать, три стула, на них - плед и одежда Толстого, медный подсвечник, пузырьки с лекарствами. А под стеклом на столе - билет второго класса. "Волово - Ростов-Дон" - написано на нем.
Покидая ночью свою родовую усадьбу, Толстой мечтал поселиться где-то в мужицкой избе, среди "низов", тяжкий труд которых он знал и уважал. Уже сам этот уход, как считал писатель, должен был стать гранью между прошлым его и будущим. Да, да, именно будущим! В свои восемьдесят два года он думал о будущем и был полон творческих замыслов.
Он взял билет до Ростова, чтобы запутать следы: хотел сойти в Новочеркасске. Там жила его племянница Елена Сергеевна, муж которой, Иван Васильевич Денисенко, служил председателем гражданского отделения Новочеркасской судебной палаты. С помощью Денисенко Толстой рассчитывал получить заграничный паспорт и отправиться в Болгарию, а если это не удастся - держать путь на Кавказ.
Он знал, что за ним будет погоня и, как мог, соблюдал конспирацию. Из Ясной Поляны сначала направился в Оптину пустынь, потом к сестре Марии Николаевне, в Шамордино. Там обсудил со своими спутниками маршрут дальнейшего следования, но куда и каким поездом поедет, толком еще не знал и сам. На юг - это все, что решил он наверняка.
Из Шамордино он выехал на лошадях утром тридцать первого. Утром же, в Козельске, сел в поезд № 12. Но билет взял не в Волово, как пишут многие исследователи, а на станции Дворики - такой маленькой, что там не было даже кассира и пользовались печатью станции Волово. Это было семь часов спустя после отъезда из Козельска. К тому времени писатель почувствовал себя очень плохо: поднялась температура, его лихорадило. Вечером он сошел в Астапово. А спустя неделю жизнь его оборвалась.
Не подозревал Толстой, что на всем его пути от Ясной Поляны до Астапово за ним уже следили жандармы. С каждой станции в столицу уходили шифрованные телеграммы. Вахмистр Пушков из Белева приказывает унтер-офицеру на станции Куркино: "По прибытии п. № 12 немедленно справиться, едет ли с этим поездом писатель Лев Толстой". Через три часа унтер-офицер Дыкин телеграфирует ответ: "Едет п. № 12 по билету 2 класса Ростов-Дон".
Дело дошло до курьезов. Газета "Приазовский край", выходившая в Ростове, в номере за 8 ноября 1910 года сообщала, что слухи о бегстве Толстого "всполошили железнодорожную администрацию южных железных дорог. На этой почве происходила масса недоразумений. Как только где-нибудь в поезде встретят старика, похожего на Толстого, об этом сейчас же дается знать по всем станциям... На каждой станции у намеченного вагона скопляется масса народу. Одного старика, в котором заподозрили Толстого, встречали с почетом и провожали на нескольких станциях. Когда он узнал, в чем дело, то обратился к публике со следующей речью: "Господа, я вас прошу разойтись, я гораздо больше похож на Суворина, чем на Толстого".
В Астапово Толстого приютил начальник станции Озолин. Он еще только провожал писателя в свою комнату, а телеграф уже отстукивал донесение унтер-офицера Филиппова, а вслед за ним - грозный окрик генерал-майора Львова: "Телеграфируйте, кем разрешено Льву Толстому пребывание в Астапове, станционном здании, не предназначенном помещении для больных. Губернатор признает необходимым принять меры отправления лечебное заведение или постоянное местожительство".
Простые люди окружили писателя вниманием и заботой. Вспоминают, что никто не давал команду машинистам паровозов соблюдать тишину, но за всю неделю болезни Толстого в Астапове не раздалось ни одного гудка.
На столе, под стеклом, я читаю последнюю запись, которую оставил тяжело больной писатель: "Вот и план мой... И все на благо и другим, и, главное, мне..." Поставить точку у Толстого уже не хватило сил.
А вот старая фотография: Софья Андреевна, спиной к фотографу, припала к окну станционного домика, вглядывается в уже обеспамятевшего, уходящего от всех "гонений" и "посягательств" старца. Страшный и трагический смысл. За окном - тот, кто ушел от неправедной жизни, отказался от частной собственности, не захотел допустить к своему смертному одру ни церкви, освящающей эту собственность, ни жены - той, что отстаивала для него же, для семьи и частную собственность, и барскую жизнь, и, наконец, власть над душой и совестью мужа...
Тогда, за семь ноябрьских дней, из Астапова ушло телеграмм во все концы России больше, чем за всю историю существования этой станции. Одну из телеграмм послал в столицу утром третьего ноября корреспондент газеты "Утро России":
"Чем оправдаемся мы в нашем преступлении?.. Ведь это общерусская вина в том, что Толстой... бежал ночью, торопя кучера, заметая след то Калугой, то Козельском, то Шамордином, пересаживаясь, слабый и больной, с поезда на телегу, с телеги снова в вагон.
Сгубили Пушкина и Лермонтова, лишили рассудка Гоголя, сгноили в каторге Достоевского, выгнали на чужую сторону Тургенева, свалили, наконец, на деревенскую лавку захолустной станции 82-летнего Толстого".
Журналист "Утра России" был прав, назвав преступлением отношение к Толстому царя, священного синода и правящих кругов тогдашней России.
* * *
Низовья реки Каялы-Быстрой зовут "долиной горючего камня". Уголь здесь особой ценности - на многие десятки километров тянутся под землей могучие пласты антрацита. Прячутся под крутыми скалистыми берегами, под хребтами серо-голубого известняка многометровой толщи, под пойменными озерами, которых здесь не счесть, под густыми куртинами шиповника, дикого терна... Максим Горький, пройдя в 1891 году пешком по берегам Нижнего Дона и Северского Донца, набрался столько впечатлений, что, по его же признанию, "чувствовал себя богачом, который не знает, куда девать нажитое".
Воздавал должное неповторимой красоте этих мест и Лев Толстой.
Где-то неподалеку от устья Быстрой, меж Донцом и железнодорожной станцией Лихая, затерялся степной хуторок Белогородцев. В наши дни его не отыскать ни на одной карте, а лет сто назад через него проходил ямской тракт и располагалась в хуторке конно-почтовая станция. Вьюжной зимой 1854 года постояльцем ее и оказался Толстой.
Он ехал тогда на перекладных с Кавказа в Ясную Поляну. Перед самым отъездом Лев Николаевич получил чин прапорщика и спешил повидаться с родными, чтобы отправиться на Дунайский фронт. Уже несколько месяцев шла война с Турцией, и он подал прошение о переводе его в действующую армию.
На Кавказе Толстой стал писателем. Оттуда послал в некрасовский "Современник" первую свою повесть - "Детство". Она была уже опубликована, получила добрые отзывы критики и читателей. В дорожном чемодане лежала рукопись новой повести - "Отрочество", тоже для "Современника". Он торопился, щедро одаривал ямщиков чаевыми, ехал даже ночью и - заплутал.
В дневнике писателя можно найти такую запись: "22, 23, 24, 25, 27 января. Был в дороге. 24 в Белгородцевской. 100 верст от Черкасска, плутал целую ночь. И мне пришла мысль Написать рассказ "Метель".
Опубликован этот рассказ был в третьей, мартовской книжке "Современника" за 1856 год. Тогда же писатель С. Т. Аксаков, прочитавший его, написал Тургеневу: "Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что "Метель" превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал..."
Но обратимся к самому рассказу. Начинается он так:
"В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле войска Донского, около Новочеркасска..."
В Новочеркасске, как установлено теперь разысканиями краеведов*, писатель был в середине дня 24 января 1854 года. Отдыхал он здесь в "Европейской гостинице". А к вечеру уже проследовал через хутор Кадамовский, где менял лошадей, и прибыл в Клиновскую. Это - при обычной скорости, положенной ямщикам, - двенадцать верст в час. Из Клиновской, напившись чаю, "в седьмом часу вечера", несмотря на добрый "совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой", писатель отправился дальше, к Белогородцеву. Но уже через четверть часа ямщику пришлось остановить лошадей и искать дорогу.
*(См. об этом в статье Л. Айрумяна "Донские страницы жизни и творчества Л. Н. Толстого" (Дон, 1978, № 12).)
"Ясно было, - рассказывал Толстой, - что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба". До самого утра, двенадцать часов подряд, продолжалось блуждание "в совершенно голой степи, какова эта часть Земли войска Донского".
К счастью, все обошлось благополучно, и Толстой добрался-таки до Белогородцева. В дневнике своем он запишет 27 января: "Два дня почти не еду. 3-го дня болела голова, а 2 дня день я ночь снежная метель".
Обратите внимание на дату - 27 января - и на слова "почти не еду". Можно предполагать, что утром 25 января Толстой все-таки перебрался из Белогородцева в станицу Каменскую (до нее оставалось 15 верст) и там пережидал метель.
Он пробудет в дороге две недели. Будет ехать через хутор Астахов на реке Глубокой, Ольховый Рог, Нижне-Лозовскую, Сетраков, Казанскую, потом по землям Воронежской губернии. 2 февраля, уже в Ясной Поляне, запишет в дневнике: "Ровно две недели был в дороге. Поразительного случилось со мной только метель..."
Но пройдет еще два года, прежде чем Толстой напишет об этом рассказ. Он побывает прежде в Севастополе, примет там участие в сражениях. И все-таки впечатления от пережитого в заснеженной донской степи настолько глубоко врежутся в его память, что он не сможет не взяться за перо. И это будет не просто пейзажная живопись - перед читателем пройдут ямщики, почтари, фурщики, выполняющие свою нелегкую, а порой и опасную работу спокойно, по-деловому, даже с каким-то веселым азартом (как, скажем, ямщик Игнашка). Их жизни, их судьбы - читатель зримо это видит - неразрывно слиты с нелегкой судьбой родной земли. Русской земли.
"Метель" будет первым, но далеко не единственным произведением великого писателя, которое связано с нашим краем. Смолоду и до последних дней жизни Толстой интересовался Донщиной, ее самобытностью, казачьими вольностями, которые становились все более куцыми (самодержавие все больше прибирало казаков к своим рукам). Писателя привлекала мысль об общественном устройстве без поземельной собственности. Это "не есть мечта" - записывает он в 1865 году в своем дневнике. И добавляет, что ученый русский и мужик говорят одинаково: "...пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная".
Через пять лет, в 1870 году, появляется такая запись:
"Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть. Голицын при Софии ходил в Крым, острамился, а от Палея просили пардона крымцы, и Азов взяли 4000 казаков и удержали, - тот Азов, который с таким трудом взял Петр и потерял".
"Народ казаками желает быть..." Сказано это было в том смысле, что русский народ стремится к свободе, воле и справедливости.
У Толстого есть серия рассказов для детей. В их числе - рассказ "Ермак" (1862). Есть рассказ о Пугачеве - "Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник" (1875). "Разбойником", кстати, Пугачев именуется здесь на потребу цензору, а в тексте сказано о нем другое: он "вешал всех дворян, а крепостных всех отпускал на волю". Писатель задумывал роман об эпохе Петра I: остались фрагменты, в которых можно найти имена Кондрата Булавина и его сподвижников. Среди незавершенных произведений Толстого - роман "Сто лет" (от Петра до восстания декабристов). Многие страницы романа посвящены Степану Разину. А в своей эпопее "Война и мир" Толстой по достоинству отмечает ратные дела сынов донских степей - атамана Платова, генерал-майора Грекова, графа Орлова-Денисова, их есаулов, хорунжих, да и просто рядовых казаков.
Такой интерес к Дону, конечно, не был случайным.
Директор Яснополянского дома-музея Л. Н. Толстого Николай Павлович Пузин показывал мне в библиотеке писателя книги, присланные ему с Дона. Одной из них была повесть К. Г. Грекова в трех частях "Что же нам делать? - Искать новые пути жизни, ведущие в царство Правды". Издана эта книга была в 1909 году издательством "Донская речь". На третьей странице - дарственная надпись чернилами:
"Великому учителю жизни, виновнику моего духовного возрождения, Льву Николаевичу Толстому, шлю эту книгу мою, как слабое выражение моей горячей любви и моего благоговения к Вам. Вы дали ключ разумения жизни. И я хотел показать моим братьям, что этим ключом можно отпереть наши цепи при всяком строе, при самодержавии, православии, при всех ужасах нашей жизни. Сказал ли я то, что нужно сказать, - не знаю. Но я сказал, как болит моя душа от неправды нашей жизни и как томится и стонет она по иной жизни, по царству мира, любви и правды. Кирилл Григорьевич Греков, 22 февраля 1909 года. Ростов-на-Дону, Нахичеванский пер., д. 32".
По-видимому, книга эта очень заинтересовала писателя: поля ее сплошь испещрены карандашными пометками Толстого.
Есть и другие книги, изданные "Донской речью". Например, труды И. Г. Белецкого "Инспекторский смотр и службу кончили" и "Красные флаги". На второй книге - автограф: "Льву Николаевичу Толстому от благодарного ученика. И. Белецкий. 1905 г. 15 янв."
Еще книга, изданная в Ростове, - "Без исхода". Надпись, сделанная автором: "Льву Николаевичу Толстому с величайшим благоговением. М. Мамадышский (Н. Бирский)..."
Об издательстве "Донская речь" и его владельце Н. Е. Парамонове стоит, наверное, сказать особо. Оно начало свою деятельность в январе 1903 года и выпускало в основном дешевую демократическую литературу. Владелец его был сыном известного в России купца-миллионера. Ему принадлежали хутора, шахты, дома, пароходы, хлебные ссыпки - и в то же время он активно поддерживал связи с социал-демократами. Среди изданий "Донской речи" была работы К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Либкнехта, Ф. Лассаля, книги многих русских писателей-реалистов (Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, В. В. Вересаева, И. А. Бунина, Г. Успенского, А. Серафимовича и других), ряд произведений зарубежной художественной литературы, среди которых "Ткачи" Г. Гауптмана, "История одного крестьянина" Эркман-Шатриана и другие издания с явно выраженной либеральной направленностью. На цветных обложках книжек "Донской речи" рядом с символом - гусиным пером - изображены были или читающий подросток в лаптях и онучах, или крестьянин с развернутой книжкой в руках. Ведь именно к этим читателям и обращены были издания. А в 1905 году Парамонов так осмелел, что, выпуская книгу Н. Рубакина "Искорки", изобразил на обложке титана с молотом в руках, разбивающего здание самовластья. Многие книги "Донской речи" преследовались цензурой, подвергались конфискации. С 1907 по 1913 год тянулся процесс по обвинению Парамоновых в "распространении литературы, способствующей свержению существующего в России строя". А вскоре началась первая мировая война, и Парамонов-старший нашел способ выкрутиться: когда через Ростов проезжал Николай II, преподнес ему на золотом блюде миллион рублей - "на войну за веру, царя и Отечество".
Октябрьскую революцию Н. Е. Парамонов не принял, он кончил жизнь в эмиграции. Но след свой в истории русской культуры оставил, и немалый. И очень прав писатель Владимир Лидин, сказав однажды: "Имя Парамонова не значится в наших энциклопедических словарях, хотя по праву может стоять рядом с именем, например, Ф. Ф. Павленкова. Фундамент здания русской культуры в огромной степени заложен теми, кого мы называем просвещенными издателями. Имена Смирдина, Глазунова, Макушина, Сойкина, Сабашникова определяют масштабы созданного при их помощи величественного здания русского просвещения. Парамонов в этом ряду не должен быть забыт. Трудолюбие и настойчивость, с какими выпускал он одну за другой эти маленькие, проникавшие в самые народные глубины книжечки, Заслуживают глубокого уважения"*.
*(Лидии Вл. Друзья мои - книги. М.: Современник, 1976, с. 324-325.)
Секретарь Толстого - Валентин Федорович Булгаков - рассказывал, что Лев Николаевич с живым интересом относился к книжкам, которые издавались "Донской речью", интересовался личностью Парамонова. В чем-то она была сродни другому русскому миллионеру - Савве Морозову.
* * *
Уходя из Ясной Поляны, Толстой надеялся, что найдет приют в Новочеркасске. У него было немало добрых друзей в этом стольном казачьем городе - со многими из них писатель переписывался, был знаком заочно.
В Новочеркасском музее истории донского казачества хранятся пять писем семьи Толстых, в том числе два - Льва Николаевича.
Адресат одного из писем до сих пор не установлен. Письмо к нему отпечатано на машинке и собственноручно подписано Л. Н. Толстым. Проставлена и дата - 23 июля 1910 года. К сожалению, угол листка оторван, поэтому весь текст прочитать невозможно. Писал его Толстой незадолго до своего трагичного бегства из Ясной Поляны.
"Получил Ваше письмо нездоровый. Но письмо Ваше так интересно, что все-таки, хотя коротенько, отвечаю", - пишет Лев Николаевич.
Далее он полемизирует, видимо, со своей корреспонденткой о "духовном начале в себе", предостерегает ее от веры в чудеса и другие проявления "духовной силы", советует об этом не думать, рекомендует пользоваться книгами "На каждый день" и посылает "связное изложение их содержания... в новом издании".
Другое письмо Толстого с рукописным текстом на трех страничках небольшого формата датировано 9 декабря 1909 года и адресовано врачу Ольге Аполлоновне Степановой. Она переписывалась со Львом Николаевичем и всей семьей Толстых, высылала им мед, получала в подарок книги.
В письме к Степановой Л. Н. Толстой замечает: "Отношение к Богу я изложил Вам в прилагаемых книжечках". И тоже рекомендует обратить внимание "на книжечки на каждый день и на прилагаемое краткое изложение моего религиозного понимания".
А жена писателя - Софья Андреевна - в письме к Степановой ют 22апреля 1910 года благодарит ее за посылку с медом и добавляет, что Лев Николаевич "...вполне понимает увлечение пчелами, потому что сам ими когда-то много занимался. У меня тоже в имении пасека, 75 ульев, но у нас мед другой, липовый, белый, и прошлое лето было для пчел неблагоприятное".
* * *
Переписывался Л. Н. Толстой и с другим новочеркассцем - Дмитрием Абрамовичем Литошенко. Это был человек довольно интересной судьбы. Происходил он из семьи отставного военного врача, который поселился после Крымской кампании на хуторе Евсееве Бирючекутского уезда Воронежской губернии. Старшие братья Дмитрия были активными народниками. Сам он учился в Харьковском университете и был очень одаренным: пробовал себя в живописи, музыке, поэзии. Из университета его исключили "за вольнодумные поступки", и Дмитрий возвратился в дом отца. Там он узнал о Льве Толстом и стал ярым приверженцем его учения. Он посылает в Ясную Поляну письмо на десяти страницах, излагая "муки и страдания российского Вертера". Потом едет к писателю сам, встречается с ним.
Когда у Дмитрия умер отец, ему досталось в наследство сто десятин земли. И Литошенко оставил себе одну десятину, а остальное подарил крестьянам. Это, конечно, страшно возмутило всех помещиков в уезде. Они стали готовить общественный суд над ним, намеревались объявить его психически опасным человеком и лишить состояния. Литошенко бежал с семьей за границу, оказался во Франции. Оттуда он пишет Л. Н. Толстому, просит его о помощи. Потом оказывается в Англии, живет случайными заработками. Снова переезжает во Францию. Оттуда посылает в Ясную Поляну свой рассказ "Странствующий дворянин". Толстой подготовил рукопись к печати, но так и не смог ее опубликовать.
"Едете ли вы в Россию и когда? - спрашивал в одном из писем Лев Николаевич у Литошенко. - Почему бы Вам не попытаться поселиться на земле - если бы можно на юге. Гонений бояться нечего. Они везде могут быть и везде могут не быть. И будет время подумать о них, когда они наступят".
Литошенко послушался этого совета. Он вернулся в Россию, поселился в Новочеркасске. Подрастали сыновья. Хлопоты о них взяла на себя Ольга Андреевна - "прекрасное существо", как сказал о ней Лев Николаевич. Она-то и обратилась к писателю с просьбой посоветовать, куда определить на учебу старшего сына. Толстой предложил сельскохозяйственную школу...
В советское время Дмитрий Абрамович Литошенко активна участвовал в коллективизации. Связали себя с землей и его сыновья. Старший, Павел, долгие годы заведовал потом кафедрой в Новочеркасской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. А внук - Иван Павлович - стал старшим научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института, виноградарства и виноделия.
И еще об одном корреспонденте Толстого. Писала ему из станицы Старочеркасской Александра Михайловна Гринева, благодарила писателя за верное служение народу. Толстой был очень тронут ее письмом. "Письмо Ваше, - отвечал он Гриневой, - вызвало во мне то же чувство, какое Вы выражаете ко мне, - чувство самое радостное".
Переписка с писателем, его добрые советы сделали Гриневу настоящей подвижницей. Перед революцией судьба забросила донскую казачку в Швейцарию. Она стала там секретарем международного союза эсперантистов. "Ее комната, - вспоминали очевидцы, - в Женеве была завалена горами переписки на эсперанто со всеми странами мира"*. Возвратившись на Дон после освобождения его от белогвардейцев, Гринева горячо взялась за создание в родной станице музея Степана Разина. Одна, без помощников, собирала и систематизировала художественные коллекции, портреты, старинные книги. Музей этот был торжественно открыт в сентябре 1921 года в бывшем дворце атаманов Ефремовых. "Вся станица... объявлена музеем", - писала о хлопотах Гриневой газета "Советский юг".
*(Красный Дон, 1921, 12 апр.)
А начиналось все с письма из Ясной Поляны...
* * *
В те же годы, когда Л. Н. Толстой увлекся трудами "крестьянского философа" Тимофея Бондарева, писателя начинает занимать еще и загадочная смерть Александра I в Таганроге. Она до сих пор считается в истории белым пятном.
В свое время вокруг кончины Александра I ходило немало самых невероятных легенд. Даже Энгельс не мог не обратить на них внимания в известной своей статье "Внешняя политика русского царизма". А Толстой начал писать об этом повесть. Назвал он ее "Посмертные записки старца Федора Кузьмича, умершего 20-то января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Хромова".
Повесть Толстого, задуманная как вымышленная исповедь Федора Кузьмича, опиралась, впрочем, на вполне достоверные и очень убедительные факты. К сожалению, закончить работу над нею Толстой не успел. После его смерти В. Г. Короленко напечатал в 1912 году главы этого интереснейшего произведения в "Русском богатстве" и... был привлечен к уголовной ответственности. В самом деле. Могла ли правда о судьбе августейшего императора понравиться царской фамилии?
Но предоставим слово самому Толстому. Вот что он писал:
"Еще при жизни старца Федора Кузьмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах 27 лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной как император Александр I, после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр I, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра III. Верил этому и историк царствования Александра I, ученый Шильдер.
Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр I умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех в довольно глухом месте, в Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в гроб, те, кто видел его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его, и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира.
Что же касается до того, что именно Кузьмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признававшие Кузьмича Александром), видавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство...; во-вторых, то, что Кузьмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и, в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами "А." и "П."; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: "Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля..."
Как же совместить в одном и том же лице двух совершенна различных людей? Неограниченный монарх, "спаситель Европы", и он же - бродяга, выдающий себя за человека, не помнящего родства. Могущественный император и... бесправнейший из его подданных, которого в Красноуфимске наказывают за бродяжничество плетьми, а затем ссылают на поселение в Сибирь.
Да, совместить это можно.
Александр I у Толстого говорит: "Я - великий преступник". Таким его знает русская история. "Воспитанный под барабаном", он считал естественными средствами государственного управления порку и казнь. Это Александр I сказал: "Военные поселения будут, даже если бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова". Еще не став императором, он был в числе убийц своего отца Павла I. Он приблизил к себе и осыпал почестями грубого солдафона Аракчеева, чтобы легче было управлять. Он был достойным внуком Екатерины II, Засчитывавшей десятки фаворитов. Александр I имел великое множество детей от постоянных и случайных фавориток и ни одного - от номинальной супруги Елизаветы Алексеевны.
После первых неудач в войне с Наполеоном император "удалился в частную жизнь", почти не показывался в свете. Его родная сестра (и в то же время - одна из его фавориток) Екатерина Павловна писала: "...Можете представить себе положение страны, главу которой презирают?"
Не император, а народ спас Россию в Отечественной войне 1812 года! Но поражение Наполеона самым неожиданным образом изменило положение Александра I. Он стал "вождем" победоносной коалиции союзных держав, "царем царей".
Фортуна вознесла Александра I на высоту, о которой он не мог даже помышлять. И одновременно вместе со славой к царю приходит идея искупления и смирения. В довершение ко всему он сближается со знаменитой религиозной шарлатанкой Крюденер.
Так могла родиться мистификация.
Народу сообщили, что император Александр скоропостижно умер в Таганроге от злокачественной лихорадки, которой заразился во время пребывания в Крыму. Тайна, которую очень хотел раскрыть Толстой, так и осталась тайной.
* * *
Лев Толстой - это целый мир.
Он дорог нам не только своими гениальными творениями, не только тем, что сумел вместить в большом и могучем своем сердце все боли, страдания и муки народа, все сложные противоречия своего века, но еще и тем, и это прежде всего, что всей беспокойной и страстной душой стремился к правде.
Отблески этого великого беспокойства писателя остались и в. летописи нашего края.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'