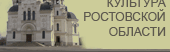
Судьба крепостного философа

Судьба крепостного философа
Познание России - увлекательнейшая из наук.
Который уже день мела за низкими оконцами пурга, и не понять было: утро на дворе или вечер. Избу завалило по самую крышу, дверные косяки тяжко постанывали от сугробной тяжести, и нельзя было истопить печь - горницу сразу обволакивало удушливым дымом: трубу тоже забило снегом. Забывшись на час-другой, хозяин сбрасывал с себя шубу, нажимал плечом на дубовую колоду двери, брался за лопату: он знал, что промедление может обойтись дорого, заживо погребет его в пуржистой могиле. Разметав узкий лаз, снова кутался в мохнатый тулуп, растирал онемевшие на морозе ладони, снова ложился на топчан: нужно было хоть как-то сберечь немного тепла, пока утихомирится непогода. Сон к нему не шел. Он и прежде-то спал каких-то два-три часа в сутки - всегда в работе, в трудах, хлопотах, не было другой жизни...
А пурга за стенами по-прежнему не стихала. Нет, не удастся, наверное, уже ему заснуть. Он поднялся с жесткого ложа, зажег лучину, потом достал из ящика стола пачку исписанных бумаг. Стал перечитывать давно знакомое: "Все это я, Бондарев, писал при жизни моей, своею рукой. А кто я был? Я был Новочеркасской области помещика Чернозубова крепостной, раб, на хребте которого помещик ездил и удила в рот закладывал, и я эту чашу горести, скорби, печали... до дна выпил..."
Ему шел тридцать восьмой год, когда помещик Чернозубов отдал его в солдаты. В хуторе Михайловском* все знали, что барин не однажды грозил Тимофею Бондареву солдатчиной. А шло все оттого, что дьячок выучил Бондарева грамоте, тот разыскал где-то крамольные книги и все, что в них было написано, начал пересказывать станичникам, а помещика тунеядцем называл.
*(Теперь это поселок Михайловка. Расположен он неподалеку от города Морозовска.)
Десять лет солдатской каторги... На одиннадцатый год Бондарева произвели в полковые дьяконы: у него был зычный голос, он знал святое письмо. Только за этим пришла другая беда. Письмо-то не совсем "святым" оказалось - прятал Бондарев в солдатском ранце не псалтырь, а книгу Радищева, неведомо кем переписанную от руки. Новоиспеченного дьякона взяли под стражу, отдали под суд и отправили на вечное поселение в Сибирь, под гласный надзор полиции.
Тридцать лет ссылки. Тридцать лет тяжкого, непосильного труда без всякой надежды на избавление... "По прибытии моем в Сибирь в 1867 году с женой и двумя детьми на нас было по одной рубахе, да и те казенные, более никаких пожитков не было..." - писал Бондарев в своей исповеди. Нет, не сломила Тимофея Бондарева царская каторга, не опустил он руки. Умом, сердцем чувствовал, что и листки эти, исписанные корявыми неровными буквами, пригодятся людям...
Но так и не узнает Бондарев, умерший в 1898 году в ссылке, признания Льва Толстого: "За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание. Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, это были два живущие теперь замечательных человека, оба всю жизнь работавшие мужицкую работу - крестьяне Сютаев* и Бондарев. Двум русским мужикам, простым, чуть грамотным мужикам, я обязан более, чем всем ученым, писателям всего мира".
*(Василий Кириллович Сютаев (1819-1892) - крестьянин-каменщик Тверской губернии, "мужицкий" философ-мыслитель.)
Толстой написал это в своем трактате "Так что же нам делать?".
* * *
Тимофей Михайлович Бондарев был действительно человеком необычной и знаменательной судьбы.
И сам он, и его прадеды были крепостными помещика Чернозубова. Грамоте Бондарев обучился уже на четвертом десятке лет своей жизни. Нет-нет да и ковырнет умным словом барина. Ну, тот и затаил на него злость, прозвал "чернокнижником". И нашел, наконец, повод отомстить Бондареву. "Иду я с барских полей по дороге и несу в руке бутылку с водой, - рассказывал об этом Бондарев в своих записках, - и мне рассудилось, что эта вода не нужна будет, и я, не останавливаясь, вылил эту воду из бутылки на ходу. И это случилось против помещичьих ворот, в отдаленности на 200 саженей. Помещик увидел из окна, что я воду лил против его ворот, признал меня колдуном и чародеем и в том же году отдал меня в солдаты, на 38-м году жизни моей, по николаевским законам на 25 годов..."
Служить Бондареву довелось на Кавказе, в 26-м полку Кубанского войска. Не мог смириться он ни с армейской муштрой, ни с тем, что отняли его от семьи на такой долгий срок. Он и в казарме тянулся к книге, к перу. Сочинял служивым письма домой, прошения по начальству. И быть, наверное, ему полковым дьяконом, не окажись в руках "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева, переписанное церковным полууставом. Читал Бондарев про Вышний Волочок, Зайцево, Пешки, а перед глазами вставала родная Донщина, хутора Михайловский и Чернозубов. Повсюду, выходит, одна судьба у мужиков: до скончания века гнуть на бар хребет, самим же пухнуть с голоду и детей хоронить... Казалось ему, что книга эта - про него, про однополчан, вместе с ним разделивших горькую судьбу.
Поначалу осторожно, а потом все смелее начал Бондарев просвещать своих товарищей по казарме. А офицеру однажды прямо сказал, что службу солдатскую убавить нужно до трех лет, много до пяти. Дальше - больше. И Бондарева за недозволенные речи отдали под суд. Два года он провел в Усть-Лабинской тюрьме, а потом отправили его в ссылку.
Енисейский губернатор определил Тимофея Михайловича на жительство в село Иудино Минусинского уезда - в самую глубину Койбальских степей, между правобережьем Абакана и северными склонами Саян.
В Иудино жили сосланные с Северного Кавказа казаки-староверы. Лет за тридцать до того как попал сюда Бондарев, они присылали в хакасские степи своих ходоков Богданова, Аникина и Борисова, срубили здесь первые избы и назвали новое село Обетованным. Губернатор, узнав об этом, возмутился и повелел дать ему другое название - Иудино...
В первый же год Бондарев стал обучать грамоте деревенских ребятишек, открыл в своем доме школу. И никакой платы за это с мужиков не требовал, чем несказанно удивил их. Но еще больше удивились поселяне, когда Бондарев предложил им провести на поля воду. В Койбальских степях засуха в те годы начисто истребляла посевы. Каждый год мужики пахали и засевали эту землю, а хлеб родился плохо, купцы скупали его за бесценок, и уже к середине зимы в крестьянских семьях начинался голод. Село шло к разорению. И отхожим промыслом крестьяне заняться не могли - все они считались поднадзорными, покидать место жительства было им строго запрещено.
К затее Бондарева в Иудино отнеслись недоверчиво. А тут еще местный богатей Мясин пустил слух, что ссыльный солдат тронулся умом и нечего его, дескать, слушать. Тогда Бондарев выхлопотал у общества пятьдесят десятин земли, собрал самую что ни на есть голытьбу, и начала эта артель рыть заступами канал. За день - две версты. И вырыли! Когда пошла на поля вода, все село сбежалось смотреть на это "чудо".
Книгу Радищева у Бондарева отобрали при аресте, а она ох как нужна была ему сейчас... Однажды он узнал, что в Минусинске живут декабристы и ссыльные народники. Тайком от сельского старосты отправился туда. Разыскал в Минусинске Николая Михайловича Мартьянова, учителя, тоже ссыльного, основавшего музей, раздобыл у него копию "Путешествия из Петербурга в Москву" и еще другие книги, рассказал ему про свою артель.
- Доброе дело затеяли, - поддержал Бондарева Мартьянов. - Вы поищите у себя в степи, там должны быть следы древних каналов, тех, что еще Чингисхан когда-то разрушил. Тысячу лет назад местные племена брали каналами воду из рек Сое и Кындырлы...
С той поры артельные дела пошли в гору. Нашел Бондарев заросшие каналы, расчистил их. По двести пятьдесят - триста пудов на каждой из пятидесяти десятин уродила пшеница. Теперь уже не надо было подбивать мужиков на орошение. И в домах достаток, ждали, вот-вот появится. Только кулаки Мясины, скупавшие хлеб, вдруг втрое против прежнего снизили цены на зерно. Поселенцам, рассудили они, все равно некуда податься, сами они в город хлеб не повезут.
Так и пошло. Земля стала родить щедро, а крестьяне никак не могли выбиться из нужды. Как найти управу на Мясиных? Бондарев уговорил мужиков подать прошение губернатору, и тот разрешил иудинцам самим сплавлять на барках хлеб на северные золотые прииски, что были от них за тысячу верст. Хоть и страшно далеко, но все же какое-то облегчение. Первая маленькая победа...
Иудинцы послали губернатору еще одно прошение - его тоже сочинял Бондарев. Речь шла об открытии в селе и "повсеместно по губернии" общественной торговли: "Как люто и как тяжко угнетают нас деревенские наши кулаки (торговцы), чего подробно описывать здесь не время и не место. По всему вышеизложенному... делайте вы так, чтобы во всякой деревне одна была бы общественная торговля и чтобы кроме ее никто не имел права торговать..."
Бондарев уже слышал, что в европейской России появились кое-где крестьянские "общества потребителей". Почему бы не быть им и в Иудине?
На этом прошении енисейский губернатор наложил резолюцию: "Отказать". Но о затее Бондарева узнали в других селах и уездах, тоже начали писать губернатору. Через два-три года в губернии все-таки появились первые кооперативные лавки.
Так Тимофей Бондарев стал в Сибири пионером двух важных дел. Первое из них - орошение засушливых степей. Второе - крестьянская кооперация.
Но главным делом всей жизни Бондарева в его тридцатилетней сибирской ссылке явился философский трактат "Торжество земледельца, или Трудолюбие и Тунеядство".
* * *
Он начал писать свою книгу в 1874 году, на седьмом году своего изгнания. Писал почти десять лет. Это была солидная, в двести страниц, рукопись. Бондарев доказывал в ней, что все люди должны, что бы они кроме этого ни делали, пахать землю и растить хлеб. "Нигде не встретишь,- с горечью признавал он, - чтобы хлебный труд одобрялся, он донельзя унижается, а трудящийся в нем признается хуже всякой собаки".
Писатель-правдолюб хорошо знал настроения и интересы крестьян и гневно бросал вызов их угнетателям. Но он наивно верил при этом, что власть имущие, познакомившись с его сочинением, отдадут землю крестьянам, и простой народ сразу же избавится от нужды.
Вот выдержки из книги Бондарева:
При Борисе Федоровиче Годунове, русском царе, был такой голод, как передают историки, что в одной Москве умерло от голода 600 000 - шестьсот тысяч, а что по всей России - неизвестно. У них до того времени были хорошие урожаи на хлеб, которого они 'не могли поесть. Где же этот лишний хлеб девался? Это есть вопрос. Белоручки поели - это есть ответ. А когда пришел голод, умер ли из них хотя один? - Нет... А великое ли расстояние и ныне до такого голода? Один только шаг.
Если того человека, который сам своих трудов хлеб ест и других кормит и от голодной смерти спасает, и, несмотря на эту великую его заслугу, настолько сильно его унижают, спрашиваю у вас, читатели, как нам назвать того человека, который не то чтобы других кормить - и сам он без крайне уважительных причин вечно чужие труды пожирает, да и притом только под видом денег, а на -самом деле кровь с бедных людей высасывает. Как назвать этого дармоеда - вот вопрос?..
Унижаю ли я этим прочие и прочие труды? Нет! Этого прошу не воображать, они все дороги, и оценить не можно, настолько они дороги!..
Конечно, есть машины пахать, окать, косить и т. д., но эти машины очень дорого стоят. В силах ли ее бедный человек купить?
Бондарев пишет далее, что заставило его взяться за труд литератора:
В 1874 году, в августе месяце, на закате солнца, иду я с уборки хлеба. Первое - от преклонных годов, а второе - от тяжких дневных работ едва ноги передвигаю, а дорога моя состоит из пяти верст. Едет навстречу один мало-мальски знатненький господин на легком тарантасе, облокотился на красные подушки, лицом на мою сторону. Я, не поравнявшись с ним пять шагов, снял шапку и ему поклонился. И что же? Он на мой поклон ни рукою, ни головою никакого признака в ответ не сделал, а только с каким-то омерзением с подлоба взглянул на меня. И этот варварский его поступок против меня, как острый нож, прошел сквозь сердце мое и убил печалью нестерпимою мою душу. И тут я поговорил кой-что заочно с ним, а от него перешел и ко всем ему подобным шарлатанам, прежде я чувствовал усталость в ногах, а теперь про нее забыл, иду и ног под собой не слышу. Вот это был первый толчок, принудивший меня принять на себя труд этот.
И дальше:
...Начиная от Рюрика, первого князя российского, роды и роды наши без всякого набора войска добровольно выходили на очевидную смерть против врагов, где кровь человеческая реками лилась. Попавшимся в плен гвозди под ногти забивали, на горячие сковороды ставили. А за что они - эти предки наши - страдали?
За землю! Чтобы было па чем будущим их родам жить... 250 годов горше лютой смерти страдали в крепостном рабстве. За что? За землю! В казну подать несли - за что? За землю! Безропотно выполняют все налоги - за что? За землю! Дают для защиты своего отечества солдат - за что? За землю!
Помни, правительство, и никогда не забывай, что я хотя и не пророк, а мое сказание мимо не пройдет. Ты хочешь это мое послание к тебе уничтожить,- нет! Оно тебя скорее уничтожит, из книги живых изгладит и в книгу смертных запишет. Не поможет тебе твоя знатность, не спасут тебя твое красноречие и хитрость, не защитит тебя и золото, которое на тебя навешано!..
Много разов я уславливался сам с собой, чтобы избегать дерзостей, а говорить бы дружелюбно, а когда дойдет очередь до столько великой обиды честных людей, как выше сказано, тогда я забываю про все свои условия и про все опасности, которые должны меня за это постигнуть...
Свою рукопись Бондарев решил послать Александру Ш. Известный писатель и журналист Александр Амфитеатров, находившийся в то время в Минусинске в ссылке за свой памфлет о царской семье "Господа Обмановы", позже вспоминал в фельетоне "Властители дум": "Отправление этой рукописи сделало эпоху на патриархальной минусинской почте. Бондарев принес претолстый пакет с простым адресом: "С.-Петербург, царю". Почта пришла в ужас и изгнала Бондарева, "яко злодея".
Упрямый философ все же ухитрился отправить свой труд царю. Ответа, конечно, он не получил. Он снял тогда еще одну копию с рукописи и послал ее министру внутренних дел. И снова - безрезультатно.
В Минусинске отбывал ссылку доктор В. С. Лебедев, народник. Заинтересовавшись сочинениями Бондарева, он прочел рукопись и переслал Глебу Успенскому. О том, чтобы опубликовать рукопись Бондарева, не могло быть, конечно, и речи: ее не пропустила бы никакая цензура. И тогда Успенский публикует в 1884 году в журнале "Русская мысль" очерк о Бондареве "Трудами рук своих", приводит выдержки из сочинений крестьянского философа (в рамках дозволенного цензурой). Автор трактата, отмечал Успенский, "полагает, что идеи его не только у нас, но и во всем свете умышленно скрыты, "опровергнуты", несмотря на то, что истекают из первородного закона божия - трудиться и трудиться непременно своими руками..."
"В народе таятся вполне определенные и ясные стремления... - писал Успенский. - Если читатель, даже и скучающий, усвоит себе хотя бы мало-мальски ясные очертания "справедливого, разумного и нравственного" типа существования, проверит им себя и подумает о будущем русского народа, применяясь к его нравственным свойствам и идеалам, то, если он и не оживет и не воспрянет, все-таки он хоть думать начнет светлее, увереннее, у него будет хоть "что-нибудь" впереди, но это "что-нибудь" - наверное, светлое, справедливое, "божеское"..."*
*(Успенский Г. Соч.: В 10-ти т. М., 1956, т. 6, с. 192.)
Очерк Глеба Успенского прочитал Лев Николаевич Толстой, он заинтересовался трудами Бондарева, попросил прислать их ему. Сочинения Бондарева привез в Ясную Поляну из Минусинска один политкаторжанин. А вскоре на имя Бондарева ушло в далекое Иудино письмо.
"...Доставили мне на днях вашу рукопись - сокращенное изложение вашего учения,- писал Лев Толстой. - Я прежде читал из нее извлечения, и меня они очень поразили тем, что все это правда и хорошо высказано. То, что говорится, это святая истина. И то, что вы сказали, не пропадет даром. Оно обличит неправду людей. Я буду стараться разъяснять то же самое. Дело людей, познавших истину, говорить ее и исполнять... Дело это делается не скоро - веками, но не скоро и деревья растут, а мы сажаем их и бережем, и не мы, так другие дождутся плода..."
Двенадцать лет переписывался писатель с Бондаревым, и не однажды признавался ему, что нашел в нем "сильного помощника в своем деле". Многие письма заканчивались трогательными словами: "Любящий тебя брат Лев Толстой".
"Пожалуйста, напиши мне, - просил он Бондарева, - что имеешь важное сказать. Жить нам осталось немного, а что имеешь сказать, надо поскорее и повернее выговаривать, пока еще живы..."
Но можно ли было рассказать обо всем в письмах? И Бондарев решил сам отправиться в Ясную Поляну, тайком от домашних стал собирать дорожную сумку. Разрешения на выезд у него, конечно, не было. И случилось то, чего он больше всего боялся: едва выехал из Минусинска, как его задержали жандармы и вернули в Иудино.
* * *
Не могли увидеть свет сочинения Бондарева в тогдашней России. Толстой делал несколько попыток опубликовать их, но всякий раз цензура их запрещала. Правда, в 1888 году еженедельник "Русское дело" все-таки напечатал книгу Бондарева в отрывках, но номера его были конфискованы. А за границей книга увидела свет - была издана в 1890 году в Париже в переводе Эмиля Пажеса, сделанном по совету Л. H. Толстого. На обложке значилась фамилия автора: "Мужик Т. Бондарев". В эту книгу вошел также этюд Толстого "Труд и теория Бондарева".
В 1898 году врач Льва Николаевича - Душан Петрович Маковицкий, словак по происхождению, перевел труд Бондарева на словацкий язык. Чтобы как-то поддержать отчаявшегося Бондарева, Толстой послал ему в Иудино свой бюст - на память.
А Бондарев, понимая, что дни его сочтены, а книга в России так и не появится, решил увековечить ее сам. Он вырыл для себя могилу, посадил рядом тополя, привез каменные плиты, огородил яму. У ямы поставил стол с выдвижным ящиком и две табуретки, в ящик положил свои рукописи. А на калитке написал: "Жалую приглашением, прочти и положи..." На плите из песчаника высек крупно зубилом:
...Родился я, Бондарев, в 1820 г. апреля 3 дня... Во всякого-человека воображение такое, что: все те люди хорошие и даже святые отцы, которые прежде нас были, также и те хорошие, которые после нас будут, а при нас все негодяи. А также и я, Бондарев, живший на свете, был негодяй. А теперь вот как прошло не одно столетие со дня смерти моей... Вот теперь, как имя мое исчезло и память изгладилась с лица всей земли, вот теперь и я хороший и всякого уважения достоин. И еще: когда человек желает почестей, бывши живым, тогда его ненавидят и гнушаются им, а когда умер, теперь ему почести не нужны, тогда эти недоброжелатели на руках несут его ко гробу. Это от жизни к смерти, от света в тьму, от бытия к уничтожению. О, какими страшными злодеяниями и варварствами переполнен белый свет!
На другой плите, правее от могилы, он высек такую надпись:
Благодарю, благодарю и еще раз благодарю вас, други мои, за то, что вы вспомнили обо мне и пришли посмотреть на устройство мое при могиле моей, и при этом было бы всем известно? читатель, что все это я, покоящийся Бондарев, писал и устройство делал на восьмидесятом году жизни моей, своими руками.
Прошу и умоляю читателей и слушателей: соберите вы рассеянные мысли по светским суетам и посоветуйтесь с ними, как затвердить на память и положить на самое дно сердца вашего следующее мое к вам слово, и при этом вообразите, что звук этих слов исходит не от читателя, а от меня, на этом месте покоящегося Бондарева...*
*(Тексты этих надписей удалось восстановить красноярскому писателю Анатолию Зябреву. Он опубликовал их в журнале "Сибирские огни", 1975, № 9-10.)
Несколько лет подряд он высекал на камнях цитаты из своих сочинений. Случилось, однако, так, что после смерти Бондарева местные власти разбили и разбросали по окрестной степи каменные плиты с изречениями и сломали стол. А от памятника остался лишь цоколь.
Умер Бондарев 3 ноября 1898 года. Восемь лет спустя книга его с предисловием Толстого вышла, наконец, из печати. И была, конечно, немедленно конфискована. Случайно уцелело лишь несколько экземпляров.
Последнее письмо Льва Толстого в Сибирь было адресовано сыну Тимофея Бондарева:
"...Благодарю вас, Даниил Тимофеевич, за сообщение... для меня печальное, о смерти родителя вашего, человека очень знаменательного и оставившего после себя значительное сочинение. Вы бы очень обязали меня, сообщив мне о нем, и о последнем времени, и часах его жизни как можно больше подробностей.
Кроме того, что я высоко ценил его как писателя, я любил его как человека и потому рад буду всем самым мелким подробностям о нем...".
Толстой считал, что труд Бондарева "переживет все его сочинения, описываемые в историях русской литературы, и произведет больше влияния на людей, чем все взятые вместе". Он считал его событием в жизни не только русского народа, но и всего человечества. А писатель Николай Николаевич Златовратский, впоследствии почетный академик по разряду изящной словесности, раздобыл фотографию Бондарева, заказал с нее большой портрет и повесил его в своем кабинете (в московской квартире) над письменным столом.
И Златовратский, и Толстой, конечно, идеализировали Бондарева. Для писателей-народников, чьи идеи разделял Н. Н. Златовратский, считалось модным, критически изображая пореформенную действительность и сочувственно рисуя страдания народа, противопоставлять жителей города людям деревни - носителям "истинной" морали, преклоняться перед "мужицкой мудростью". Что касается Л. Н. Толстого, то еще в 1905 году А. М. Горький в письме ему прямо говорил: "Почерпнув когда-то Вашу философию у мужиков Сютаева и Бондарева, Вы слишком поторопились заключить, что эта пассивная философия свойственна всему русскому народу, а не есть только отрыжка крепостного права, и Вы ошиблись, граф, - есть еще миллионы мужиков - они просто голодны, они живут, как дикари, у них нет определенных желаний, и есть сотни тысяч других мужиков, которых Вы не знаете (...) они ушли далеко вперед по пути к сознанию своих человеческих прав..."*.
*(Горький А. М. Соч.: В 30-ти т. М.: т. 28, с. 358.)
И все-таки Тимофей Бондарев, "мужицкий философ", оставил свой след в истории. Волею жестокой судьбы он оказался в таких условиях, что не смог стать тем, кем мог бы. А сколько таких истинных талантов погибло в царской России под бременем нужды, тьмы и печали!
* * *
Несколько лет назад село Иудино по просьбе жителей было-переименовано в Бондареве На могиле нашего земляка поставлен памятник, а в местной школе организован музей Бондарева. Помнят его и на Дону. Библиотека в поселке Михайловка носит имя Бондарева. Давно бы следовало также подумать, чтобы имя талантливого философа-самоучки, провозвестника новой жизни, носил и придонский хутор, с которым были связаны почти четыре десятилетия его жизни, - ведь он до сих пор еще зовется именем помещика-крепостника Чернозубова.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'