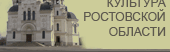
"Был и я среди донцов..."

'Был и я среди донцов...'
Блеща средь полей широких, Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!
Я хорошо помню, что научился читать, когда еще не стал первоклассником. Хорошо помню также, что первой книжкой, которую мне подарили, были не сказки с картинками, а стихи Пушкина, и открывалась она волшебными, а тогда еще и таинственными для меня строчками: "У лукоморья дуб зеленый..." Через день я знал их наизусть и все-таки снова и снова брал в руки заветную книжку - столь очаровали меня, казалось бы, простые на первый взгляд слова. Я, конечно, понимал, что это только сказка и никаких русалок и леших на свете не бывает. Вздумай кто-нибудь из старших сказать мне тогда, что и само лукоморье, и заветный дуб находятся совсем неподалеку от нашей станицы, я посмеялся бы над ними: не таким уж наивным бывает человек, когда пошел ему восьмой год.
Не сразу и не вдруг можно понять, что даже самая красивая сказка, сколько бы ни было в ней вымысла, никогда не бывает просто выдумкой.
Не мог я даже подозревать в детстве, что знаменитые пушкинские строки: "У лукоморья дуб зеленый..." родились именно в наших, придонских степях.
Об этом не сказано ни в одном из бесчисленных литературоведческих трудов, посвященных великому поэту, Я сразу же предвижу возражения пушкинистов и все-таки готов спорить с ними.
Мне скажут: поэма "Руслан и Людмила" закончена Пушкиным в марте 1820 года, 15 мая цензор Иван Тимковский подписал разрешение на выпуск ее в свет. А на Дону поэту довелось побывать лишь в начале июня.
Все это так. И тем не менее строки о лукоморье родились на Дону.
"Руслана и Людмилу" Пушкин задумал еще в лицее. Ссылка на юг помешала ему отредактировать и "перебелить" свое любимое детище. Уезжая из Петербурга, поэт оставил рукопись на попечение друзей и, конечно, еще не мог в мыслях и думах своих так быстро распрощаться со сказочными образами первой своей большой поэмы.
О том, что случилось позже, хорошо известно. В Екатеринославе поэт тяжело заболел. Здесь и разыскал его генерал Н. Н. Раевский - в бедной хате на берегу Днепра, "в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада". Раевский ехал на Кавказ с дочерьми и сыном (лицейским товарищем Пушкина) и выпросил у своего давнего сослуживца - генерала Инзова, под надзором которого находился поэт, согласие на то, чтобы Пушкин отправился вместе с ними.
Из Екатеринослава они выехали 28 мая (9 июня) 1820 года - степными дорогами к Мариуполю, а оттуда - на Таганрог, к лукоморью. Пушкин написал потом с дороги своему брату Льву: "Я лег в коляску больной, через неделю вылечился".
О первом свидании Пушкина с лукоморьем очень живо вспоминала старшая дочь Раевского - Мария Николаевна (ставшая позже супругой декабриста Волконского и последовавшая за ним в Сибирь). "Я помню, - сообщает она в своих записках, - как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги, я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет:
Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам! Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами!"*
*(Записки княгини М. Н. Волконской. Чита: Вост.-Сиб. пзд-во, 1960, с. 49.)
Между прочим, этот поэтический эпизод использовал потом и Некрасов в "Русских женщинах", описывая Машеньку Раевскую, ставшую женой ссыльного декабриста Волконского. Правда, Некрасов отнес свои стихи к пребыванию Пушкина в Гурзуфе.
Тридцатого мая Раевские и Пушкин прибыли в Таганрог. Остановились они в доме градоначальника П. А. Папкова на Греческой улице (ныне это улица III Интернационала). В ту пору Таганрог был уже большим купеческим городом с разноязыким населением, но "строением бедный, иные дома крыты соломой..." Провели они здесь сутки, а затем направились в Ростов, "что прежде был предместьем крепости святого Димитрия", как записано в дневнике Н. H. Раевского.
Наверняка можно предполагать, что долгими степными дорогами от Екатеринослава к лукоморью Пушкин снова и снова возвращался к образам своей поэмы. Курганы с каменными идолами посреди пестрого разнотравья, орлы, парившие в знойном мареве, истлевшие кости в густом ковыле, - все это были те места, где когда-то соратники великого киевского князя сражались с хазарами и печенегами, защищая родную землю. Это, конечно, здесь храбрый витязь Руслан скрестил свой меч с хазарским князем Ратмиром. Ведь и древняя хазарская столица, Белая Вежа, недалеко - у Цимлянской станицы. Здесь, и только здесь, была и вотчина Черномора - злого волшебника и хозяина южных степей, прозванных Диким полем... Значит, отсюда должно начинаться поэме, которую он, Пушкин, не успел закончить, покидая Петербург!
Обо всем этом поэт, наверное же, думал, когда осматривал Таганрог - город, который Петр I задолго до основания Петербурга задумывал строить как столицу России. Пушкин отдыхал под вековыми дубами в гирлах Дона, там, где ржавели в речном иле могучие цепи, - некогда страшный и опасный для кораблей подводный барьер, закрывший путь к Азовской крепости. Сказывали, самая главная цепь - золотая, ее не успел увезти с собой султан-паша, и никак не отыщут теперь, сколько бы ни искали, казаки:
На уз* - быстрой Каланче Ишо он** накинул свою ценю Через батюшку славный тихий Доп. Ишо нельзя-то, нельзя нам, бравым казаченькам, По тихому Дону погулять - Ишо не лодкой, ишо что не водою, Ни морским, ни сухим путем...
*(Уз - устье реки.)
**(Паша.)
Где-то по дороге, в донских гирлах, увидели путешественники на одном из островов покосившуюся избушку без окон (или они были на стороне, обращенной к морю), да и дверей не приметили. Обшарпанная, давно не беленная, укрытая густыми зарослями камыша, казалась она совсем нежилой. И вдруг, будто из-под земли, явилась подле избушки старуха - простоволосая, черная от загара, с заткнутым за пояс темным передником. Приложив ко лбу ладонь, поглядела па проезжавшие мимо острова экипажи.
- Во те на! - весело (как рассказывает об этом Раевский) вскричал Пушкин. - Ни дать ни взять - баба-яга у своей избушки на курьих ножках!
Все согласились, что очень похоже.
И еще многое, наверное, виделось поэту на придонской дороге. Возле ерика у Синявки не мог он миновать огромного котла, в котором будто бы варили кашу для русских солдат во время осады Азова. Он ехал мимо развалин Лютика - турецкого форта на Мертвом Донце, мимо обмелевшего Темерника с остатками петровских корабельных верфей на оползающих берегах, мимо руин Танаиса - некогда гордого, не пожелавшего покориться боспорскому царю города-легенды, города-загадки...
Нельзя, конечно, считать простой случайностью тот факт, что для второго издания поэмы "Руслан и Людмила", появившегося в 1828 году, Пушкин пишет стихотворное введение "У лукоморья дуб зеленый..." Этих чудесных строчек не было в первом издании. Нет их и в черновиках поэта, предшествовавших ссылке на юг.
Можно возразить: строки о лукоморье - это просто-напросто переложение одной из сказок няни Арины Родионовны, которые слушал Пушкин в Михайловском. Там ведь тоже есть свое лукоморье. Не буду спорить. Но прежде чем воплотиться в чеканные строки стиха, лукоморье предстало перед поэтом именно во время его путешествия с Раевским на Кавказ.
Было это то самое лукоморье, что круто огибает руины Танаиса.
Старинная легенда рассказывает (а ее мог слышать и Пушкин), что в незапамятные времена жило в меотийских (приазовских) степях воинственное племя амазонок, состоявшее целиком из женщин. Мужественные и гордые, они сами пахали землю и сеяли хлеб, пасли скот, охотились на диких зверей, в изобилии водившихся в густых непроходимых лесах, а осенью устраивали веселые праздники у громадных костров. Если амазонкам угрожал враг, они меняли соху па лук и копье и умели постоять за себя. Сам Александр Македонский не рискнул отправиться против них в поход.
- Если я одержу победу над амазонками, - сказал он, - моя слава не возрастет. Если же они победят меня, это будет страшным позором. Будут говорить, что великого Александра побили женщины.
И полководец отменил свой поход.
Но в ту же самую пору, когда гремела по всему Ближнему и Среднему Востоку слава Александра Македонского, юноша по имени Танаис - сын вавилонского жреца Бероса и амазонки Лизиппы - вздумал посмеяться над военными талантами женщин и был жестоко за это наказан. Богиня Венера внушила Танаису любовь к собственной матери, и юноша с отчаяния бросился с обрыва в реку. С тех пор эту реку так и стали называть - Танаис. А потом это имя принял город.
Высокий холм, с которого, по преданию, Танаис бросился в воды широкой реки, существует и поныне. Вы можете взобраться на него, увидеть оттуда голубую дельту Дона, а дальше к окоему - берега Азовского моря, напоминающие по форме изогнутый лук. Вот оно - сказочное лукоморье, воспетое Пушкиным.
В тот год, когда Пушкин впервые свиделся с лукоморьем, Танаис еще не открыл своих тайн людям. Лишь три года спустя керченский градоправитель И. А. Стемпковский, страстный любитель археологии, раскопал у хутора Недвиговки акрополь, до странности схожий с Ольвийским*. Тогда же Стемпковский высказал предположение, что Недвиговское городище - это именно то место, где некогда существовал Танаис.
*(Ольвия - древнегреческая колония на Буге.)
Археолог-любитель не ошибался. Но понадобилось почти полтора столетия, прежде чем наука раскрыла загадку этого некогда могущественного города. Впрочем, сказать: "раскрыла" будет, наверное, не совсем точно. Еще и поныне курганы у лукоморья хранят немало тайн и загадок.
Неподалеку от Танаиса, по реке Темерник, проходила когда-то граница между Европой и Азией.
Здесь, у Танаиса, эллинский мир встречался когда-то с миром степных кочевников - сарматов, скифов.
Древнее наименование Дона - Танаис - прочно удерживалось в античной географии. Упоминание о нем можно найти у Геродота и Страбона, у римских историков. В III веке до нашей эры, когда в Причерноморье появились первые греческие колонии, название реки принял выросший в этих степях город. А соседнее поселение стало называться Лакедемоном - в честь великой Спарты (по-гречески Спарта - Лакедемон). Между прочим, село Лакедемоновка существует и поныне на том же самом месте, и в нем издавна жило несколько греческих семей. По всей вероятности, пращурами их были греческие колонисты. Кто знает...
Греки везли в Танаис вино, ткани, предметы роскоши. Сарматы давали им в обмен на привезенные товары рабов, продукты скотоводства, рыбу. Само слово "Танаис" - наполовину сарматское, производное от "тон", "тан", что означает "вода", "река".
Пятнадцать веков назад еще стоял у лукоморья легендарный город-крепость, поднявшийся из небытия совсем недавно, когда его раскопали археологи и превратили в музей-заповедник...
Я медленно брожу по улицам навеки уснувшего города, и в знойном мареве чудятся мне паруса галер, прибывших из Афин и Пантикапея. Полуголые рабы, позванивая цепями, грузят на суда амфоры с душистым медом и пшеницей. Рыжебородые ремесленники и рыбаки, сильные, загоревшие, в длинных кожаных фартуках, запрокинув в зной головы, пьют, проливая на землю, терпкое вино, и рубиновые капли его стекают по жилистым крепким шеям. Вино это в глиняных пористых кувшинах приносят им полногрудые смуглые женщины с тугими загоревшими икрами, в свободных на груди и бедрах одеждах. Мужчины смолят перевернутые лодки, отгоняя детвору от черно дымящих костров, гончары гоняют круг, шлепая широкими ладонями по глине... А вечером, устав от дневных забот, эти люди усядутся вокруг костра, где на огромном вертеле сочно зажаривается баранья туша; большими ножами будут они резать окипевшее жиром мясо и, обжигаясь, есть его...
По преданию, отсюда, из Танаиса, вышел Савмак - предводитель могучего восстания рабов, потрясшего Римскую империю.
А кроме Танаиса, есть в степном лукоморье еще и "Донская Троя".
Несколько лет назад в этих местах сделано было открытие, поразившее ученых всего мира, - обнаружена крепость, возраст которой превышает три тысячи лет! Единственная представительница эпохи бронзы на территории европейской части нашей страны. И что примечательно - легендарная Троя и открытая на берегу Мертвого Донца крепость - почти ровесники. Они даже и внешне похожи друг на друга, обе крепости: по архитектуре, по строительному материалу, из которого были сложены стены, - камню-ракушечнику.
Время не пощадило крепостных стен. И все-таки степные ветры не могли стереть с лица земли форты и башни, их следы остались. Те, кто строил "Донскую Трою", знали толк в военном искусстве, хорошо разбирались в фортификации. И не отсюда ли послали скифы персидскому царю Дарию - покорителю многих стран и народов - свое символическое письмо - птицу, мышь, лягушку и пучок тростниковых стрел: "Если вы не улетите, как птицы, не ускачете в озера, подобно лягушкам, не скроетесь под землей, как мыши, то падете под нашими стрелами..." И воины Дария покинули тогда степи, так и не овладев "Донской Троей".
Курган у станицы Елизаветинской был известен по археологическим раскопкам еще в прошлом веке. Но еще раньше, в середине XVIII века, там поработали грабители. Ученые все-таки продолжали свой поиск. И вдруг - удача, да какая! Они нашли гробницу скифского вождя.
Погиб ли предводитель в сражении, умер ли собственной смертью, но пышность похорон не вызывала сомнений: погребен именно вождь. Трудно даже перечислить все найденные в гробнице сокровища и среди них - золотой горит - футляр для лука и стрел. Последняя стрела из него была вынута двадцать четыре века назад! Время не тронуло золотую пластину, которой был покрыт горит, она была совсем как новая: настоящее золото не тускнеет. А самым дорогим оказались рисунки безвестного древнего мастера, украсившие пластину. Они изображали сцены из жизни Ахилла - героя Троянской войны. Если помните, "Илиада" начинается с рассказа о его деяниях: "Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который ахеянам тысячи бедствий содеял..." В ту пору история Ахилла еще не стала легендой. Художник, чеканивший горит, был его современником, а может быть, даже его воином. На небольшой поверхности, размером чуть больше школьной тетради, он изобразил весь путь героя - от рождения до гибели. Вот Ахилла обучают стрельбе из лука. Вот хитроумный Одиссей обнаруживает героя в доме цари Ликомеда, где его спрятала мать, оберегая от участия в битве. Вот сцена примирения Ахилла с Агамемноном. Вот Ахилл надевает доспехи, присланные ему матерью Фетидой - богиней моря...
Пушкин отлично знал историю Ахилла. Подозревал ли он в ту поездку, что созерцает руины "Донской Трои"?
А много лет спустя после скифов сюда пришли хазары и печенеги. Киевский князь Святослав оттеснил их, завоевал развалины Танаиса. Может быть, на высоком этом холме дружинника Святослава даже пировали, празднуя победу после ратных схваток с недругами. В конце десятого века князь Владимир отдал Танаис вместе с Тмутараканью в удел своему сыну Мстиславу. Но это уже события, куда более близкие к нам по времени.
Книга седого лукоморья удивительна, и перелистать все ее страницы - задача, наверное, непосильная. Те же из них, которые удается прочесть, - неповторимы.
И первая страница в этой книге все-таки была прочитана Пушкиным. Я всякий раз думаю об этом, приезжая в Танаис в начале июня. С недавних пор родилась добрая традиция устраивать здесь ежегодный праздник, посвященный дню рождения Пушкина. Поэты читают стихи, звучат песни, музыка, - и все это в память о той поре, когда придонские степи очаровали великого Пушкина, заставили его взять в руки перо и воспеть сказочное лукоморье...
* * *
В жизни Пушкина было немало страниц, тесно связанных с нашим краем. Недаром одной из самых любимых тем поэта была тема о вольном казачестве. Степан Разин и Емельян Пугачев, храбрые воины донского атамана Платова и цимлянские виноградари, красота и раздолье донских степей. - все это нашло отражение в творчестве поэта.
Я продолжаю листать дневники Раевского и записки Волконской, перечитываю письма Пушкина и хочу представить, как все это было...
В Ростове путешественники осмотрели крепость Святого Димитрия с ее высокими каменными стенами, еще помнившими Суворова и Сенявина, но давно утратившими какое-либо военное значение. Посетили Богатый колодец - действительно обильный водой родник, на который обратил внимание еще Петр I. А в версте от крепости лежал армянский город Нахичеван. Там задержались у базара. Раенский и Пушкин прошли по торговым рядам, их воображение поразила многоязыковая и пестрая толпа. Были тут и темнолицые армяне в строгих черных одеждах, и греки с итальянцами, и горцы в черкесках, с кинжалами на поясе, и казаки в чекменях, и украинцы в расшитых полотняных рубахах... Когда возвращались в ожидавшие их кареты, Пушкин сказал в раздумье:
- Я жаждал краев чужих, думал, что полуденный воздух оживит мою душу. Но я не знал, что и на отечественном юге так много любопытного, достойного пера поэта. Прелестный край!..
Из Нахичевани направились в казачью станицу Аксайскую. Ехали через глубокую Кобякову балку. Неровными улочками поднялись на взгорье, к конно-почтовой станции. Там остановились на ночлег.
Войсковым атаманом на Дону был в тот год казачий генерал Андриан Карпович Денисов, старый боевой товарищ Раевского. Раевский, конечно же, захотел повидаться с ним и послал с коннонарочным записку в Новочеркасск. Утром две кареты (коляску с прислугой оставили в Аксае) покатили в новую столицу Войска Донского.
Тракт пролегал мимо старого сада атаманов Ефремовых. Слева от дороги высился огромный раскидистый дуб. И вдруг Пушкин приметил полускрытую листвой девушку в длинном ярком платье, схваченном цветистым пояском у талии.
- Смотри, Nicolas: русалка на ветвях сидит! - воскликнул он.
Раевский флегматично улыбнулся:
- На дубе сидит простая девка-казачка. Но ты не был бы Пушкиным, если б не увидел в ней русалку. За это и люблю тебя, Александр...
Оба рассмеялись...
Не эта ли встреча на дороге из Аксайской в Новочеркасск заставила поэта сложить строки будущего пролога к "Руслану и Людмиле": "Русалка на ветвях сидит..."? Мы не знаем этого. Домысел в творческих рассуждениях - вещь очень ненадежная. Но в воспоминаниях литератора М. П. Погодина есть свидетельство о том, что в 1826 году, 12 октября, на квартире поэта Веневитинова в Москве Пушкин читал "У лукоморья дуб зеленый..." Это было после свидания поэта с Доном.
Вернусь к рассказу о путешествии Пушкина и Раевских.
Кортеж подкатил к триумфальной арке. Здесь начинался широкий Платовский проспект. У атаманского дворца встретил их Денисов - в мундире, при орденах. Как водится, гостей пригласили к столу. Во время обеда - по заведенному еще Платовым порядку - песенники из Атаманского полка исполняли казачьи песни. Пушкин с интересом слушал протяжные, незнакомые ему прежде мелодии, начинал сам тихонько подпевать. Отобедав, осматривали город - весьма обширный, но пока еще мало заселенный. Со времени основания города прошло уже пятнадцать лет, но казаки не очень охотно селились в новой войсковой столице. "Стоит город на горе, казакам на горе..." - шутили иные.
А на следующее утро отправились в Старый Город - так именовался тогда Черкасск (ныне станица Старочеркасская). Атаман снарядил для гостей многовесельную шлюпку с гребцами. "Увидите разлив Дона, - сказал Денисов. - Зрелище чудесное! А по пути загляните на дачу Екатерины Дмитриевны Орловой,, вдовы покойного атамана Войска Донского. У нее гостит деверь, Алексей Петрович Орлов..."
Бывший командир лейб-гвардии казачьего полка Орлов был хорошо знаком Раевским. У дачи Орловой сошли на берег. Генералы по-приятельски обнялись, начали вспоминать свои ратные дела. Дочери Раевского развлекались, как могли. А Пушкина вновь начало лихорадить. Хотелось закутаться в плед и, свернувшись калачиком, как он любил это делать, лежать неподвижно, наблюдая за облаками в небе. Но хозяйка уже звала всех к столу...
А потом они осматривали Старый Город. В своем дневнике Н. Н. Раевский запишет: "Сей разжалованный город в станицу еще более обыкновенного залит водой. В нем осталось домов до 700... другие перевезены в Черкасск (имеется в виду Новочеркасск. - В. М.)... Но не могли увезть памяти, что это первое было гнездо донских казаков".
Пушкин видел войсковой девятиглавый Воскресенский собор, построенный еще при Петре I в 1706-1719 годах. На майдане у собора когда-то шумела разинская вольница. А в самом соборе показали поэту цепи и кандалы, в которые был закован Разин. Осматривали Ратненскую церковь со старинным кладбищем, где похоронены были все донские атаманы XVIII века, торговые ряды, казачьи дома. Не могли пройти мимо дома Булавина, мимо куреня Разиных. Все в Старом Городе дышало мятежным прошлым.
Время, проведенное Пушкиным на Дону, совпало с тревожными событиями. Хутора и станицы Таганрогского уезда были охвачены крестьянскими волнениями. Пушкин и Раевские встречали на придонских дорогах крестьян, спешивших к повстанческим центрам - в Лакедемоновку, в Мартыновку-на-Миусе. Во многих хуторах вообще не оставалось жителей, дома стояли пустыми. Поэт накапливал богатые впечатления о крестьянском быте, о жестокости царских властей по отношению к восставшим. Жадно расспрашивал о Степане Разине, записывал предания о нем. Может быть, именно тогда появилась у него мечта воплотить образ Разина в поэзии. Среди черновых набросков "Путешествия Онегина" встретим мы потом имя мятежного атамана. Своего брата Льва Сергеевича Пушкин будет просить прислать ему "историческое сухое известие о Степане Разине - единственном поэтическом лице русской истории..."*
*(Архив Раевских. СПб, 1908, т. 1, с. 521.)
Именно тогда, после свидания с Доном, напишет Пушкин три стихотворения о Степане Разине: "Как по Волге-реке широкой...", "Ходил Стенька Разин в Астрахань-город торговать товаром..." и "Что не конский топот, не людская молвь..." Он будет читать их на том же вечере у Веневитинова вместе с прологом к "Руслану и Людмиле" 12 октября 1826 года.
Но стихи о Разине не будут опубликованы, этому воспротивится цензура. Бенкендорф официально уведомит Пушкина 22 августа 1827 года: "...при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к печатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева".
До конца своих дней поэт интересовался личностью Степана Разина, продолжал собирать материалы о нем. Вот что рассказывал об этом граф П. Х. Граббе (Пушкин познакомился с ним у Н. Н. Раевского в Петербурге в 1834 году): "Мы обедали и провели несколько часов втроем... Он занят был в то время историей Пугачева и Степана Разина... Он принес с собой даже брошюру на французском языке, переведенную с английского и изданную в те времена одним капитаном английской службы, который по взятии Астрахани представился ему и был потом очевидцем казни его".
Речь шла, видимо, об английском офицере Давиде Бутлере.
Другое свидетельство о работе Пушкина над разинской темой можно найти в письме поэта Н. Н. Языкова брату: "Говорят, что Пушкин написал много нового, между прочим поэму "Стенька Разин"... Видно, он много занимается своим делом. Слава и честь ему".
Мы не знаем, была ли действительно написана Пушкиным поэма о Разине. Во всяком случае, до нас она не дошла. Да и могла ли вообще дойти? Даже за небольшие стихотворения о Разине Пушкин получил строгое внушение от царя (ведь Бенкендорф писал поэту, выполняя волю царя). Что же ожидало бы поэта после создания поэмы? Возможно, поэт сам уничтожил черновики поэмы?..
Собирая материалы для "Истории Пугачева", Пушкин неизбежно снова обращался к образу Разина. На Урале он записал, например, легенду о посещении Петром I могилы Разина. Стоит заметить, что Петр I в свое время будто бы жалел, что "сей способный человек жил не в мое время, я сделал бы из него мужа, весьма полезного Отечеству". Так, по крайней мере, гласит предание.
За год до своей смерти Пушкин перевел на французский язык несколько народных песен о Разине ("О рождении Разина", "О смерти Разина", "Об убийстве астраханского воеводы"). Опубликовать их в России поэт, конечно, не мог.
В песнях, легендах и преданиях о Разине Пушкина привлекало прежде всего неугасимое стремление казачества к свободе. В поэме "Братья-разбойники", замысел которой оформился, конечно же, под впечатлением виденных на Дону в 1820 году картин народного восстания, Пушкин недаром изобразил среди персонажей и "беглеца с брегов воинственного Дона". А брату своему поэт писал 24 сентября 1820 года: "Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков - теперь тебе не скажу о них ни слова".
Что это были за записи, можно лишь догадываться. Во всяком случае, Пушкин хорошо знал о многолетней борьбе донцов за свои права. Не случайно ведь он в трагедии "Борис Годунов" вложит потом в уста Самозванца слова, обращенные к посланцу с Дона "от казаков верховых и низовых":
Мы ведаем, что ныне казаки Неправедно притеснены, гонимы...
Все это - и интерес к Разину, Пугачеву, к донским казакам, к степному лукоморью - родилось и прочно утвердилось в душе поэта после того путешествия с Раевскими на Кавказ.
* * *
Во второй раз Пушкин побывал на Дону девять лет спустя.
Первого мая 1829 года он выехал из Москвы на юг. Еще за год до этого просил он определить его в армию, действующую на Кавказе. "Все места заняты", - последовал категорический ответ Бенкендорфа, выполнявшего волю царя. Не получив официального разрешения властей, поэт выехал сам, по собственной воле.
Обеспокоенный Бенкендорф, не без основания заподозрив Пушкина в том, что путешествие предпринято еще и затем, чтобы встретиться с декабристами, шлет секретное предписание... И над Пушкиным на все время путешествия устанавливается тайный надзор.
Не ведал Пушкин, что, пока он едет, восторгаясь всем увиденным, пренебрегая правилами следования по опасной дороге, чтобы наглядеться красотой неописуемой, - за ним неусыпно следят жандармы.
Незадолго до отъезда из Петербурга Пушкин сделал предложение семнадцатилетней красавице Наталье Гончаровой и получил от ее матери ответ, весьма обнадеживающий. Мать писала о молодости Натальи, о необходимости подождать, подумать... Это не было отказом, давало ему право надеяться. Первого мая Пушкин написал будущей теще восторженно-благодарное письмо л тотчас выехал на юг.
Он понимал, что, покидая Петербург без разрешения царя и Бенкендорфа, навлечет на себя их гнев, что потом ему придется оправдываться и подыскивать благовидные мотивы для объяснений. Но все это будет потом, а пока... Им владело чувство свободы, раскованности, казалось, будто вырвался он на свежий воздух из душной тюремной камеры.
Из Калуги Пушкин свернул в Орел и сделал двести верст лишних, чтобы повидаться с опальным генералом Ермоловым. Затем путь его лежал через Елец, воронежские равнины, Новочеркасск, калмыцкие степи. Ехал он быстро, не задерживаясь. В Новочеркасске остановился на конно-почтовой станции - в одноэтажном деревянном доме на Атаманской улице. Здесь он, к своей радости, встретился со старым другом - графом Владимиром Алексеевичем Мусиным-Пушкиным, в прошлом активным членом Северного тайного общества. После разгрома декабристов тот от сидел шесть месяцев в крепости и был отправлен на службу в Тифлисский пехотный полк. Теперь опальный офицер возвращался из отпуска к месту службы на Кавказ. Пушкин тоже хотел посетить Тифлис - там в Нижегородском драгунском полку служил его младший брат Лев Сергеевич. Договорились путешествовать вместе.
Из Новочеркасска выехали на следующий день рано утром. Мусин-Пушкин ехал в просторной бричке, наполненной провизией, вином, книгами, мундирами и ружьями. Александр Сергеевич - в своей коляске.
В станице Аксайской, пока смотритель конно-почтовой станции записывал в подорожную книгу фамилия и звания проезжающих, а ямщики закладывали лошадей, Пушкин стоял у крутого обрыва, смотрел на задонье и вспоминал свою первую поездку по этим местам с семьей Раевских - такую счастливую для него и памятную. Брату своему он писал потом: "Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простотой, прекрасной душою..." С тех пор прошло девять лет, и что же сталось? Прелестная Машенька, княгиня Мария Николаевна Волконская, томится в сибирской глуши, в Нерчинских рудниках, куда добровольно последовала за своим мужем, декабристом Сергеем Волконским, сосланным на каторгу. С нею вместе отправилась в Сибирь, чтобы разделить участь мужа, другая мужественная женщина - княгиня Трубецкая... Сколь же превратны человеческие судьбы, думал, наверное, Пушкин, и как жестоки бывают удары изменчивой фортуны...
За переправой начинался задонский тракт. Широкая степь я удивила, и обрадовала поэта своими просторами. Все здесь было ново, необычно: и заливные луга с ериками, озерами, похожими на серебряные чаши, и густые травы в рост человека, и птицы, неведомые в северных лесах, орлы, сидящие на кочках, означавших большую дорогу, строго и гордо поглядывающие на редких путников, а на тучных пастбищах - "кобылиц неукротимых гордо бродят табуны..." Это были стихи его друга Рылеева, тоже опального, как и Ермолов, как Мусин-Пушкин, как многие другие верные товарищи.
Нещадно палило солнце, мучила жажда. Но подвижной и общительный Пушкин не мог усидеть в тени своей коляски, он то и дело перебирался в бричку Мусина-Пушкина, где можно было говорить обо всем откровенно, не боясь, что их кто-то услышит. Говорили о тайном по-французски, чего не мог понять казак-возница...
К вечеру показался калмыцкий улус. Белые войлочные кибитки стояли полукругом, неподалеку от них копошились женщины и дети. За кибитками мирно паслись косматые низкорослые кони. Чуть поодаль становища увидели избу почтовой станции, выкрашенную желтой охрой.
Пока меняли лошадей, Пушкин пошел к кибиткам. Поэт хорошо знал историю этого "смирного и доброго народа" из трудов ученого-востоковеда Никиты Яковлевича Бичурина, дарившего ему свои книги о Тибете и Джунгарии - родины ойратов, или калмыков. Знал, что в Россию калмыки пришли в начале семнадцатого века, кочевали между Волгой и Яиком. Знал также, что в конце восемнадцатого столетия, доведенные местным начальством до отчаяния, калмыки поддержали восстание Пугачева. Калмыцкий старшина Федор Дербетов привел к Пугачеву отряд в триста сабель - он стал ядром пугачевской конницы. А после того как восстание было жестоко подавлено царскими войсками, тридцать тысяч калмыцких семей решили уйти за Волгу, на родину своих предков, в Джунгарию. Это был тяжкий исход. Большая часть калмыков погибла в пути, а бывшая родина, где уже хозяйничали китайцы, встретила их совсем неласково...
О своей поездке по задонским степям поэт расскажет потом в своих дневниках так:
"Кочующие кибитки полудиких племен начинают появляться, оживляя необозримую однообразность степи. Разные народы разные каши варят. Калмыки располагаются около станционных хат. Татары пасут своих вельблюдов*, и мы дружески навещаем наших дальних соотечественников.
*(Так у Пушкина. - В. М.)
На днях, покамест запрягали лошадей, пошел я к калмыцким кибиткам (т. е. круглому плетню, крытому шестами, обтянутому белым войлоком, с отверстием вверху). У кибитки паслись уродливые и косматые кони... В кибитке я нашел целое калмыцкое семейство; котел варился посредине, и дым выходил в верхнее отверстие. Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, куря табак. Лицо смуглое, темно-румяное. Багровые губки, зубы жемчужные. Замечу, что порода калмыков начинает изменяться, и первобытные черты их лица мало-помалу исчезают. Я сел подле нее. "Как тебя зовут?" - "***" - "Сколько тебе лет?" - "Десять и восемь". - "Что ты шьешь?" - "Портка". - "Кому?" - "Себе". - "Поцелуй меня". - "Неможна, стыдно". Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать со всем своим семейством. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Не думаю, чтобы кухня какого б то ни было народу могла произвести что-нибудь тоже. Она предложила мне свой ковшик, и я не имел силы отказаться. Я хлебнул, стараясь не перевести духа. Я просил заесть чем-нибудь, мне подали кусочек сушеной кобылятины. И я с большим удовольствием проглотил его. После сего подвига л думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня по голове мусикийским орудием, подобным нашей балалайке. Калмыцкая любезность мне надоела, я выбрался из кибитки и поехал далее. Вот к ней послание, которое, вероятно, никогда до нее не дойдет..."*
*(Цитирую по черновым запискам А. С. Пушкина к "Путешествию в Арзрум". - Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1960, т. 5, с. 565-566.)
Свое послание Пушкин будет складывать в дороге. Образ красавицы-калмычки, "степной Цирцеи", еще долго его не покидал. Мысли переносили поэта в Петербург, в великосветские салоны, где блистали нарядами столичные модницы. Ставя рядом с ними степную красавицу, Пушкин не без удивления находил, что она ему и ближе, и дороже. Он вспоминал еще, как "офранцуженные" завсегдатаи салонов восторгались повесой Сен-Маром - героем французского романиста Альфреда де Виньи. Сам поэт относился к нему весьма неодобрительно и часто иронизировал над автором. Думая о красавице-калмычке, вспоминал и о Натали...
Уже во Владикавказе, в номере дешевой гостиницы, он, не успев умыться с дороги, сядет за стол, чтобы записать стихи, которые родились в задонской степи. Потом торопливо сложит листок вчетверо, сунет его в карман...
Прощай, любезная калмычка! Чуть-чуть, на зло моих затей, Меня похвальная привычка Не увлекла среди степей Вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узки, И плосок нос, и лоб широк, Ты не лепечешь по-французски, Ты шелком не сжимаешь ног, По-английски пред самоваром Узором хлеба не крошишь, Не восхищаешься Сен-Маром, Слегка Шекспира не ценишь, Не погружаешься в мечтанье, Когда нет мысли в голове, Не распеваешь: ma dov'e*, Галоп не прыгаешь в собранье... Что нужды? Ровно полчаса, Пока коней мне запрягали, Мой ум и сердце занимали Твой взор и дикая краса. Друзья! Не все ль одно и то же: Забыться праздною душой В блестящей зале, в модной ложе Или в кибитке кочевой?
*(Но где... (первые слова итальянской арии).)
В Карсе, турецкой крепости, взятой русскими войсками, с этой рукописью приключится потом забавная история. Пушкин расскажет о ней в "Путешествии в Арзрум".
Торопясь догнать армию, находившуюся уже за Карсом, Пушкин потребовал у офицера-турка лошадей. Тот, в свою очередь, потребовал у него документ на право получения лошадей. Сообразив, что офицер по-русски читать не умеет, Пушкин подал ему первый попавшийся в кармане листок. Турок внимательно посмотрел на него и, распорядившись привести лошадей, вернул Пушкину бумагу. Это было "Послание к калмычке"...
* * *
Послание, вероятно, никогда к ней не дойдет... А оно все-таки дошло!
Я думал об этом, приехав в поселок Южный, что на берегу Маныча. В тот день строители задонских оросительных систем принимали здесь гостей - поэтов и писателей из Элисты и Ростова. На огромной площадке при слепящем свете автомобильных фар и прожекторов гости читали свои стихи. Народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов рассказывал собравшимся о Пушкине.
- Как мог он предсказать, - спрашивал Кугультинов, - что я, "друг степей калмык", почти полтора века спустя буду благоговейно стоять у его изваяния на Тверском бульваре и шептать его имя? Да я ли один? Оглянулся - рядом стоит блондин с рыжеватыми волосами, - не финн ли? И еще некто с характерным монгольским лицом, может быть, один из тех, кого во времена Пушкина называли "тунгуз", сын народностей Севера...
И Кугультинов вспомнил старого учителя, калмыка Эмге Халявкина, который много лет записывал в степных хотонах народные песни. Тот принес ему две ученические тетради с голубыми обложками, в которых были не только стихи, но и рисунки. На одном из рисунков был изображен Пушкин - он стоял, облокотившись о передок повозки, а перед ним пела молодая калмычка, аккомпанируя себе на домбре. А рядом - старик, видимо, ее отец, держал под уздцы оседланного коня. За ними угадывалась широкая и бескрайняя степь.
- И странно! - добавил Кугультинов. - Все лица на рисунке были мне знакомы, только я не мог точно сказать, кто они из числа моих знакомых. Кто это поет? Неужели та самая калмычка, с которой встречался Пушкин и посвятил ей удивительные стихи? Но та ли? Правда, на ней старинный калмыцкий наряд, но лицо... Оно одухотворено поэзией Пушкина. А старик? Быть может, это он рассказал Пушкину чудесные сказки, потом введенные поэтом в "Капитанскую дочку"? Он мог рассказать, но... Все-таки это лицо скорее напоминало лицо самого Халявкина...
Я долго рассматривал этот рисунок, - продолжал Кугультинов. - Он был немного наивен, выполнен рукой непрофессионала, рисунок, в котором столько было явных анахронизмов. Но ведь случается иногда, ты человека яснее видишь в его ошибке. Старый учитель-калмык не случайно нарисовал Пушкина среди сегодняшних калмыков, ибо только после Октябрьской революции Пушкин пришел к нам и живет среди нас как наш великий поэт. Да разве только к нам он пришел? Ко всем народам Советского Союза и - всюду стал своим...
На вечере читала свои стихи Бося Сангаджиева - первая поэтесса-калмычка. И тоже - о Пушкине. О девушке, которую хотел поцеловать Пушкин (она называла ее своей прабабушкой). Значит, дошло все же стихотворное послание великого поэта в калмыцкую кибитку! Читал свои стихи и ростовский поэт Даниил Долинский, давно и плодотворно работающий как переводчик. Конечно, и его стихи были о той девушке, ставшей в здешних краях уже легендарной, и перекликались они с тем, о чем только что говорила Бося:
Наверно, та домбра была к добру, Когда поэт, калмычку обняв шало, Запомнил лбом не звонкую домбру, А ту ладошку, что ее держала... Откуда знать ей в тишине полей, Степной Цирцее, вдалеке от света, Что жить и пережить столетья ей В послании и в памяти поэта! Откуда знать, что все это не зря, что взгляд ее строку его наполнит?! ...Об этом, мне стихи свои даря, Любезная калмычка вдруг напомнит.
* * *
Приехав в Тифлис, Пушкин не застал там своих друзей: они находились в действующей армии. "Желание видеть войну и сторону мало известную, - писал он потом в своих дневниках, - побудило меня просить позволения проехать в армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума".
На фронте Пушкин встречался с донскими казаками и сам побывал в бою. Донцы полюбили его и охотно приняли в свою семью. "В "Путешествии в Арзрум" поэт рассказывал, как он в сопровождении тридцати донских казаков, отслуживших свой срок, возвращался затем в июле 1829 года на родину. По дороге встретился им шедший на смену полк. "...Казаки узнали своих земляков и поскакали к ним навстречу, приветствуя их радостными выстрелами из ружей и пистолетов. Обе толпы съехались и обнялись на конях при свисте пуль и в облаках дыма и пыли".
Очень может быть, что на одном из привалов или в седле, когда в памяти поэта еще свежи были эпизоды недавних сражений, и родились стихи:
Был и я среди донцов, Гнал и я османов шайку. В память битвы и шатров Я домой привез нагайку...
Возвращался Пушкин по уже знакомой ему Военно-Грузинской дороге. Во Владикавказе пересел с коня на коляску.
В Ставрополье простился он с горами и ущельями - начались степи. Теперь они не были залиты водой, как тогда, в мае, но пойменные луга еще зеленели и озера по-прежнему сверкали серебром.
К аксайской переправе подъехали вечером. Не впервые видел Пушкин Дон, но всякий раз его волновала эта река - колыбель казачьей вольницы. Он вышел из коляски на берег, снял цилиндр и, шагнув к самой кромке воды, с чувством сказал, как старому другу:
- Здравствуй, Дон!
По плашкоутному мосту переправились через реку, поднялись в гору и завернули в гостеприимный двор знакомой почтовой станции. Ямщики распрягли лошадей, навстречу уже спешил смотритель в форменном, порядком затасканном сюртуке. Заказав ужин, Пушкин присел у раскрытого окна. По ту сторону Дона лежал лесистый остров. Напротив далеко был виден Дон, бегущий к морю, справа вливались в него воды Аксая. Где-то там, выше, слышал поэт от казаков еще в 1820 году, когда был в здешних местах с семьей генерала Н. Н. Раевского и ездил в Старый Черкасск, лежит остров Буян, на нем запрятал Степан Разин драгоценный клад - ищут давно его и не могут отыскать...
А перед глазами его снова вставали лихие казаки-наездники в далеком Арзруме, где совсем недавно он жил в палатке Николая Раевского, участвовал в переходе через Саган-Лу и в сражениях с Гаки-пашой. Скакал с казачьей пикой наперевес, преследуя вместе с казаками противника. И вот их колыбель... Поклон тебе, тихий и славный Дон, от далеких твоих сынов!.. Но война окончена, казачьи полки уже возвращаются в родные края. Пушкин представил себе, как они переправляются через пограничную реку Арпачай - горную, бурную, как пьют из нее воду донские кони. Мысли складывались в стихотворные строки. Пушкин торопливо достал из дорожного чемодана чернильный прибор, бумагу...
Блеща средь полей широких, Вот он льется!.. Здравствуй, Дон! От сынов твоих далеких Я привез тебе поклон. Как прославленного брата, Реки знают тихий Дон; От Аракса и Евфрата Я привез тебе поклон. Отдохнув от злой погони, Чуя родину свою, Пьют уже донские кони Арпачайскую струю. Приготовь же, Дон заветный, Для наездников лихих Сок кипучий, искрометный Виноградников твоих.
Два года спустя стихи эти появятся в "Литературном приложении" к газете "Русский инвалид", их положат потом на музыку. Но все это будет потом. А пока поэт набирался новых и новых впечатлений.
Он видел из окна конно-почтовой станции, как у берега толпятся у каюков казаки - босые, с закатанными по колено шароварами. Наверное, рыбаки. Торопливо накинул фрак, спустился к Дону. К нему потянулись с корзинами в руках:
- Господин хороший, купите свежей рыбки!..
Пушкин улыбнулся:
- Купил бы, да жаль - в Петербург не довезу... Вот ухой бы меня угостили...
Чуть поодаль, у самой воды, уже полыхал костер, закипала вода в казане. Пока варилась уха, Пушкин присел на днище опрокинутой лодки, задумчиво смотрел на загорелые, дышавшие здоровьем лица рыбаков, на румяных казачек-торговок. Он поднялся, подошел ближе к костру и попросил рыбаков что-нибудь спеть,
- Какую вам желательно послушать?
- Спойте свою, донскую, казачью.
Казаки запели. Сначала "Сбушевалася на море непогодушка, непогодушка в море небольшая, небольшая, только волновая..." Потом "Из лесу дремучего казаки идут, на руках своих носилочки, носилочки несут. Носилочки не простые, с ружьев сложены..." На тех носилочках казака несут с отсеченной головой, а конь его плачет и говорит своему хозяину:
Сойди ты, хозяюшка, с турецкой земли, Все твои товарищи на Дон поушли, Твоему-то отцу-матери поклон понесли, Молодой твоей женушке с малыми детьми...*
*(Песни эти были записаны в 1936 году на хуторе Верхне-Гнутове сельским учителем Василием Петровичем Гнутовым со слов старой аксайской казачки.)
Подступала к горлу тоска - непонятная, пронзительная, не отмахнуться от нее, не отвернуться... Пушкин встал, широким шагом пошел от костра к темной улице, круто поднимавшейся в гору. Вышел на майдан с низкой деревянной церквушкой, побродил по кривым переулкам. Рядом с деревянными куренями с балясами, рядом с глиняными беленькими хатами, крытыми камышом, видел он и просторные кирпичные дома под железной крышей. "И казаки не избежали общей участи: хоромы соседствуют с лачугами", - размышлял поэт. На Аксайском редуте, по соседству с гостиницей, редуте, давно уже никому не нужном, проиграла отход ко сну солдатская труба. Берег заволакивало туманом, и давно уже погас рыбацкий костер - не было видно даже тлевших головешек.
Наутро поэт отправился в Новочеркасск.
...Еще и поныне сохранилось в Новочеркасске деревянное одноэтажное здание, где останавливался, возвращаясь из Арзрума, Пушкин. На его фронтоне есть мемориальная доска. Она повествует о том, что
"Здесь, в доме бывшей почтово-ямщицкой станции останавливались:
А. С. Пушкин - 1829 г.
М. Ю. Лермонтов - 1840 г.
А. С. Грибоедов - 1818, 1823, 1828 гг.
Ссыльные декабристы:
В. А. Мусин-Пушкин,
И. И. Пущин,
П. А. Бестужев,
Н. И. Лорер,
А. Е. Розен..."
Новочеркасский краевед Борис Плевакин разыскал в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина любопытные воспоминания о встрече с Пушкиным небезызвестного донского военного деятеля А. П. Чеботарева, записанные с его слов. Узнав, что в город приехал Пушкин, Чеботарев "...тотчас же полетел в гостиницу... и прямо вбегает в комнату, где тот обедал. Пушкин спрашивает: "Что вам угодно?" Он отвечает: "Видеть Пушкина". - "Ну, так вы его видите".
Пушкин... принял его очень радушно. Ну, говорит, молодой казак, вижу я, что в вас много поэзии, и вам - первый экспромт, написанный при виде вашего Дона..."
Так почитатель пушкинского таланта донской казак Чеботарев стал первым слушателем стихов "Блеща средь полей широких..."
В Новочеркасске, ожидая из Петербурга денег, Пушкин задержался. Но жить ему на почтовой станции было беспокойно, и поэт перебрался во "въезжую квартиру" - к пожилой вдове казачьего офицера. Здесь он чувствовал себя почти как дома. Непринужденно беседуя с хозяйкой, дотошно расспрашивал у нее о прошлом и настоящем казаков, их быте, обычаях, укладе. Много бродил он по городу, бывал в книжной лавке, познакомился ближе с казачьими офицерами.
Много лет спустя, в "Казачьем вестнике" за 1887 год, местные старожилы вспомнят об этом пребывании Пушкина в их городе. Они расскажут о том, как однажды поэт попросил хозяйку показать ему старинные казачьи наряды и она достала из сундука залежавшиеся платья. Особенно понравился Пушкину женский шелковый колпак с вышитыми по нему яркими цветами. Поэт пришел в восторг. Смеясь, он кое-как примостил его себе на голову, упрятав под колпак курчавые каштановые волосы, и в обличье таком вышел на балкон. Сел на табурет у перил, скрестил на груди руки и вдруг, согнав с лица улыбку, придал ему надменное выражение гордой красавицы. Прохожие с удивлением смотрели на столь необычное зрелище. Забава кончилась тем, что Пушкин уговорил вдову продать ему этот колпак и увез его потом в Петербург...
Однажды к поэту пришел чиновник, назвался Сербиным и спросил, не встречался ли он на Кавказе с Василием Дмитриевичем Сухоруковым, его другом. Пушкин насторожился. С Сухоруковым, донским историком, другом многих декабристов, жившим в Новочеркасске после их разгрома под надзором полиции, а затем сосланным на Кавказ, Пушкин познакомился в Арзруме. Поэт знал, что Сухоруков, подозреваемый властями в причастности к декабристам, и в армии находился под негласным надзором, поэтому принял незнакомого гостя отчужденно, опасаясь неприятностей. Однако, поговорив с Сербиным, убедился в его искреннем расположении к Сухорукову и тогда только сказал, что не только видел Василия Дмитриевича в Арзруме, но не раз проводил с ним за беседою вечера.
- Сухоруков имеет отличные дарования, - сказал Пушкин. - Он умный и любезный человек, а сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных делах, о своих исторических изысканиях. Но у него отняли богатейший архив, некогда тщательно собранный им! - Поэт добавил это с горечью и уже совсем дружелюбно посмотрел на Сербина большими чистыми глазами: - Жаль, если его планы и желания не будут исполнены...
Сербии предложил Пушкину поселиться в его доме на Александровской улице, и поэт принял это предложение.
Старожилы Новочеркасска вспоминали еще и такой случай. Осматривая город, Пушкин как-то набрел на книжную лавку казака Жидкова. Покопавшись в разнородном бумажном хламе, купил за грош потрепанную греческую книжку. Наугад спросил у книготорговца, есть ли в лавке "Евгений Онегин". Оказалось, есть. Он пожелал узнать, сколько же стоит его детище... Жидков запросил чудовищно дорого. На миг превратившись в обыкновенного покупателя, Пушкин воскликнул:
- Помилуйте, за что же так дорого?
- Сделай одолжение, - отвечал хозяин лавки, не подозревая, что перед ним автор "Евгения Онегина", - за эти сладенькие стихи следует брать еще дороже...
Похвала льстила авторскому самолюбию, тем не менее в душе Пушкин, наверное, возмутился: как же бессовестно наживаются торгаши на его книгах, за которые сам он получал от издателей весьма умеренные деньги.
Живет в Новочеркасске предание, будто Пушкин побывал в одном из винных погребков, где его угощали отменными донскими винами. Научные сотрудники Музея истории донского казачества даже покажут вам в старой части города это памятное место - солидный полутораэтажный дом, неподалеку от бывшего дворца наказного атамана Кутейникова. Внизу - замшелая, наглухо заколоченная, перетянутая кованым запором дверь... Это и был тот самый заветный погребок. Между окном и дверью еще сохранились следы вывесок. В самом погребке - светлые, прохладные комнаты, большие некрашеные скамейки... Сразу вспоминаются стихи:
Погреб мой гостеприимный Рад мадере золотой И под пробкой смоляной St Пере бутылке длинной...
Дрожащее пламя свечей, чарки кавказской чеканки, веселые лица подвыпивших казаков... Говорят, когда поэт пришел в погребок, нашлись среди посетителей такие, что помнили его по Арзруму, стали угощать его наперебой. Он пил медленно, смакуя, донское вино с терпким степным ароматом и освежающей кислинкой, чувствовал, как пробуждается в бокале хмель бунтующего сока...
По дороге из Тифлиса Пушкин случайно встретился с Дуровым - офицером лейб-гвардии, братом "кавалерист-девицы" Надежды Дуровой, и тот подчистую обыграл поэта в карты. В кармане у Пушкина оставался мелок (хотел отыграться Дурову на конно-почтовой станции, да так и позабыл мелок), вытащил его из кармана и написал на, дубовой двери погребка что-то озорное, веселое. Что именно - так и осталось для нас неизвестным. Казаки, прочитав, хохотали, хлопали Пушкина по плечу, снова тянулись к нему с чарками. Они совсем признали его своим...
Минуло еще несколько дней. Снова заложена в коляску пара лошадей, казак-ямщик взял в руки вожжи. Вот уже и триумфальная арка осталась позади, и фашинный мост через реку Тузлов пружинит под колесами. Снова потянулась ровная степь, уже тронутая осенней желто-серой краской, да редкие курганы-могильники у окоема.
Дорога вела поэта в Северную Пальмиру, которая станет вскоре для него Голгофой...
* * *
В Ростове, на Пушкинском бульваре, есть памятник поэту. Он поднялся на пьедестал из красного полированного гранита - бронзовый, вечный, повернув голову к Дону, как бы затем, чтобы еще раз окинуть взором бескрайние степные дали за рекой. Скульптор изваял Пушкина молодым, насмешливо бодрым и одухотворенным, и кажется, что поэт, весь устремленный вперед, вот-вот скажет приветственно и звонко:
- Здравствуй, Дон!

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'