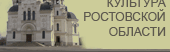
Горький хлеб

У ребят в рабочих семьях детство обрывалось рано и потому всегда внезапно.
- Довольно! - говорили однажды родители десяти-одиннадцатилетним сыну или дочери. - Набегался нагулялся, большой уже. Пора за дело браться, ремеслу учиться...
Или:
- Хватит в школу ходить. Два класса кончил, читать-писать выучился, чего еще?..
Начиналась трудовая жизнь И горек-горек бывал хлеб, заработанный на хозяйской фабрике, в мастерской или на заводе, хлеб, обильно политый потом, слезами, а нередко и кровью.
Первые годы ученики работали за харчи, без всякой платы. Спасибо еще, если хозяин раз в две недели давал пятиалтынный на баню и отпускал домой переменить белье. Ребята, находясь в учении, жили там же в мастерской или на кухне. Спали вповалку по двое, по трое на кровати, а то и просто на полу. Расстелит паренек мешочный матрац, набитый соломой и стружкой, сунет под голову подушечку, что мать дала... Кормили, конечно, скверно. На завтрак - чай с хлебом, летом еще - огурцы и помидоры. В обед - борщ или суп-"кондер": пшено, вода и немного подсолнечного масла, и обязательно - каша. На ужин опять чай с хлебом, остатки борща или каши...
Ученики раньше всех вставали, позже всех кончали работу. С утра шла заготовка всего, что будет потребно днем мастерам и подмастерьям. Затем-то помогали кухарке, то хозяйке, несли за нею корзину с базара.
Днем главная обязанность ученика - "подать-принять", да так, чтобы "левая нога здесь, а правая там".
- Колька, дуй к заказчику, - говорит хозяин картонажной мастерской. - Коробки отнесешь...
Нанизает Колька два-три десятка коробок на длинную палку, несет, согнувшись, непосильную для себя тяжесть. Врезается палка в плечо, в свежие, вчерашние рубцы. Худо Кольке, тяжело, тяжелее, наверное, чем лошади, втаскивающей с берега груженый воз на подъем Таганрогского проспекта. Лошадей иногда жалели, писали даже в газете, что драгили перегружают их и бьют и что "хорошо бы отделу общества покровительства животным обратить на это внимание". О Кольках-учениках и этого не писали. Да и общества покровительства ученикам не было.
А вернется Колька в мастерскую - сразу же новые поручения:
От мастера:
- Колька, сбегай за соточкой!..
От подмастерьев:
- Колька, жарь за квасом - опохмелиться!..
Вечером набегавшийся до изнеможения десятилетний Колька раскис совершенно: "Спа-ать, спа-а-ть!.." А у хозяина срочный заказ, работают за полночь. Сидит Колька у жаркой керосинки, варит клей. Глаза слипаются, никнет голова. И вдруг - отрезвляющая звонкая затрещина:
- Ты что, жулье ростовское, дрыхнешь?.. Тебе бы все лодырничать, латки сушить!..
В жестоко-веселую минуту мастер или сам хозяин непрочь были устроить "представление". Сладко дремлющему мальчугану смазывали глаза и губы клеем, а потом устрашающе гаркали над его головой:
- Пожар!
Вскочит одурелый Колька - в глазах темно, рот не открыть, замечется испуганным зайцем. А мастерская потешается:
- Ох-хо-хо!.. Стенку головой не прошиби!..
Бить или не бить учеников - такого вопроса не было. Все били, дело обычное. И пострадавшие, как правило, не жаловались, пока не доходило до необычайной жестокости. Однажды привлечен был к суду хозяин шапочной мастерской Тендетников: он разорвал мальчишке-ученику уши, в ярости топтал его ногами. Парнишку потом еле отходили. И допрошенный в качестве свидетеля мастер Дмитриев определил тогза философское "кредо", долго обыгрывавшееся в печати:
"Учеников, конешно, бить можно. Даже надо бить, обязательно, уму-разуму учить. Только чтобы не убивать..."
Но вот годы ученичества позади. В четырнадцать-пятнадцать лет можно было уже и выбрать: то ли оставаться в мастерской, то ли попробовать найти место на заводе или еще где-нибудь.
Темерницкие, да и нахаловские, больше всего тяготели, конечно, к "чугунке", к Главным мастерским Владикавказской железной дороги.
Работа и там была, разумеется, не мед.
В прокопченные, полутемные корпуса Главных мастерских попасть на работу было не просто: без рекомендации, без "клепки" мастеру не обойтись. А мастера "клепали" и "спрыскивали" основательно - как не угоститься на дармовщину от новичка или от его отца? И неизменно при этом следовало внушение:
- Первое дело, не фордыбачь, начальства слушайся, особливо меня. А то...
И шло перечисление взысканий и штрафов во всех их видах: за курение во дворе или в помещении, за задержку в уборной, за непочтительность к мастеру, монтеру*.
*(Бригадиру.)
Мастерские встречали рабочего разноголосым шумом, металлическим лязгом. В чугунолитейном отделении вновь поступившему выражали сожаление:
- Ну, ты, брат, попал!.. У нас тут каторга...
- Но, вы же работаете...
- Работаем!.. А ты знаешь, что литейщик больше трех-трех с половиной десятков лет и на свете не живет?..
И вскоре новичок убеждался: верно, тут долго не протянешь. Цех низенький, маленький, без отопления - зимой формовщики разжигали около себя костры. А летом духота, пылища - здоровые рабочие в обморок падали...
В кузнечном страдали больше всего летом, от жары. Кузнецы и молотобойцы с утра снимали рубахи, оставались голыми по пояс, много и жадно пили. Горько хвалились:
- Иной день по ведру воды на брата выходит. И все пить хочется - помахай-ка, постучи с наше по железу...
В колесном хуже всего - зимняя стужа. Коптящие камельки-жаровни, целый день - певуче-надрывное: р-раз-два, взяли!.. Еще раз, взяли!..
Это рабочие выкатывали вручную тележки и колесные пары из-под вагонов.
В сборном - грохот клепки, звон металла. Одни надевают на пальцы колес сорокапудовое дышло: раз-два, взяли!..
Под паровозом, "на яме", копошатся с ног до головы измазанные подростки - самое грязное место: взрослые рабочие его избегали.
Бригада "по обшивке" готовится идти в "царскую комнату" - так называли не остывшую еще топку паровоза. Обвязывают шеи "концами" - паклей, набивают в штаны сено, чтобы не ожечься.
И так все десять рабочих часов. Только после девятьсот пятого года в мастерских ввели девятичасовой рабочий день. Тоже немало - в грязи, в пыли, да еще если главная помощница - "Дубинушка".
Хозяйской жадности предела не было: их воля - они бы из одних рабочих суток выкроили двое. Правила внутреннего распорядка на табачной фабрике "либерального" Асмолова в первые годы нового столетия предусматривали:
"Работа на фабрике начинается с 1 августа по 1 мая ежедневно с 8 часов утра и продолжается до 8 часов вечера включительно, с перерывом для обеда от 12 до 1 часу дня и для полудня с 3 до 3 1/2 часов пополудни;
с 1 мая по 1 августа - с 7 часов утра до 8 часов вечера, с перерывом для обеда от 12 до 2 часов дня и для полудня с 4 до 4 1/2 часов пополудни..."
За провинности теми же правилами устанавливались самые строгие кары - штраф, штраф, увольнение...
Трудно представить, как выдерживали эти полсуток табачники, в основном женщины и подростки.

У табачной фабрики Асмолова
"Сердце сжимается, темнеет в глазах, когда входишь на нашу фабрику, - приводились их свидетельства в листовках Донкома РСДРП. - Густая ядовитая табачная пыль заволакивает мастерские, толстым слоем ложится на платье, давит грудь, дурманит голову. Целый день мы вдыхаем эту едкую пыль. Гибнет от нее здоровье, разрушается грудь, появляется кровохарканье, за ним и чахотка...
Хороший хозяин устраивает лучше помещения для скотины. Пыль, духота, грязь - дышать нечем. Скряга хозяин не хочет даже устроить вытяжных вентиляций..."
Еще бы хозяин хотел! Вентиляция стоила денег. А рабочий или работница - что они стоили? На улице, за воротами, всегда сколько угодно желающих найти место.
На бумажную фабрику Панченко после одного из пожаров городской думой была отряжена комиссия для обследования. На что уж были снисходительны господа обследователи к своему коллеге - влиятельному гласному, но и они записали в акте, что условия работы на фабрике невозможные. "...Вентиляция устроена примитивным способом, вследствие чего от обрабатываемого тряпья и газа хлорной извести распространяется по всем помещениям фабрики зловоние, вредно влияющее на здоровье рабочих... Двор оказался не везде замощенным, благодаря чему масса веществ подвергается гниению, а для тряпья, служащего рассадником всяких микроорганизмов, нет правильно устроенных складов..."
Комиссия, разумеется, не отметила, ради чего богатое семейное панченковское "товарищество бумажных фабрик и каменноугольных копей" скряжничало, не устраивая вентиляции и сносных складов - ради дивиденда*. А дивиденд у товарищества всегда был немалый.
*(Годовой доход на акцию.)
Либеральный журналист местной газеты, подводя итог увиденному на фабрике Панченко, меланхолически заключал, что фабрика - увы! - не единственная в своем роде; такие же точно санитарные порядки почти во всех ростовских фабрично-заводских заведениях. И свои упования он возлагал на фабричную инспекцию: пусть-де она покажет предпринимателям твердость характера. "Когда господа заводчики убедятся, что с ними не шутки шутят и не комедии разыгрывают, - они, можно за это поручиться, сделаются покладистее и корректнее, чем были до сих пор благодаря сознанию полной своей бесконтрольности и безнаказанности..."
Наивничал или беспардонно обманывал читателя прекраснодушный либерал-журналист? Фабричная инспекция - это было известно всем - находилась на полном содержании у фабрикантов и заводчиков. Никого не вводили в заблуждение показные комедии освидетельствования предприятий. Придет инспектор к хозяину, сунет в карман полученную от него мзду за молчание - и с тем и уходит обратно.
А прекраснодушный журналист шел на берег Дона и возмущался опять - на этот раз порядками на шерстяных мойках:
- Это же один из видов каторжного труда!.. Сотни женщин, получая тридцать-сорок копеек, с четырех утра до девяти вечера стоят, согнувшись в три погибели, на плотах, под самым жарким солнцепеком. И за все это время только час на обед, да и от того приказчики крадут минуты - несвоевременно дают звонки и гудки... Большинство работниц - из Батайска, Койсуга, домой им идти далеко, спят тут же, на плотах. Грязь неимоверная! Ужас!..
Встречал журналист у врача знакомую прачку - изможденное двадцатитрехлетнее создание. Слышал ее бесхитростную жалобу:
- На плотах, должно, когда белье полощем, простыла. В грудях болит и кровью харкаю...
- Ну, пойдемте, послушаю вас, - с профессиональной невозмутимостью предлагал врач. И, возвращаясь через несколько минут, вручал девушке рецепт:
- Это вам пилюли, милая; принимайте их три раза в день, не утомляйтесь - и будете здоровы.
- Спасибо, господин доктор, спасибо, - поясно кланялась девушка, всовывая в руку врача гонорар.
- Что, и в самом деле выздоровеет? - недоверчиво спрашивал у врача журналист, провожая девушку соболезнующим взглядом.
Врач с мрачным видом махал рукой:
- Безнадежна! Через полгода, самое большее, на кладбище... Ей бы куда-нибудь в Ниццу, в Ялту, на худой конец, да чтоб уход, питание были, - тогда еще можно бы ожидать чего-то. А она ведь завтра опять будет на плоту стоять, по колена в воде, потом в свою конуру придет, хлеба с квасом поест... Что ей эти пилюли из креозота? Ей бы из стрихнина пилюли, чтобы, по крайней мере, мучилась меньше...
Приходил журналист в редакцию и слышал:
- Умер Кротков, наш газетный наборщик. Совсем молодой еще...
- От чего умер?
- Известное дело!..
- Я всегда говорил: типография - тоже каторга, - угрюмо резюмировал журналист. - Работа до изнеможения, свинцовая пыль - чего уж тут ждать хорошего...
Из-под пера выходило новое грустное размышление:
"Свинцовая болезнь.
Сначала - недомогание.
Потом - чахотка...
Потом - смерть...
Наборщик Фаддей Михайлов Кротков, окончив "урок", пришел домой и умер.
Ему было 23-24 года, три года назад он переселился из Москвы в Ростов. Свинцовую болезнь он привез с собой..."
- Хороший человек был, царствие ему небесное, - говорили на похоронах Кроткова. - Хотя и чудак: велик ли у него был заработок, а журналы выписывал, чего и многие купцы не делают...
Действительно, "назови мне такую обитель"... На фабрике и заводе - каторга. На шерстомойне и в типографии - каторга. В маленькой мастерской с десятком-двумя рабочих - тем паче.
Невыносимые условия труда толкали рабочих на борьбу.
В ремесленных мастерских упирали больше на то, что составляло боль повседневную, в требованиях мельчили. Выборные ростовских столяров, собравшись вместе, потребовали восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы. А потом пошли дополнения:
Долой хозяйский стол!
Вежливое обращение чтобы было от хозяев!
Вентиляцию устроить!
Во всех мастерских получать кипяток!
Устроить деревянные полы в мастерских!
Чтобы ученики учились работать, а не на кухне у хозяина находились!..
Забастовки ширились, крепли. На взлете волны первой русской революции бастовали даже шапочники, казалось, привыкшие работать сутками, неделями не выходить из мастерской, спать там же, на полу. Бастовали до того безропотные, не выходившие "из хозяйской воли" шляпочницы. Бастовали, к большому недоумению хозяев, пекари - вчерашние мужики, пришедшие в город на заработки из-под Калуги и Новгорода, Рязани и Орла. Какой-нибудь земляк-кулачок выписывал их в Ростов "по знакомству" и на правах "родственника" выжимал силы до последнего. Пекари терпели - как же поднимать голос против "благодетеля"; довольствовались тухлыми хозяйскими харчами и хозяйской "квартирой" - той же пекарней, где кроватями служили мучные мешки и лари. Но наконец и они забастовали, вызвав жгучую хозяйскую обиду: "Неблагодарные!.."
Первые стачки и первые требования бастующих владельцами ростовских фабрик и мастерских воспринимались без большой тревоги. Так, курьез какой-то.
- А что будут делать работницы, если установится восьмичасовой день? - осведомлялся у представителей бастующих один из табачных фабрикантов. - Ведь они же привыкли работать двенадцать-четырнадцать часов. А при восьмичасовом рабочем дне делать им будет нечего, и они, чего доброго, ударятся в разврат...
Но желание шутить вскоре пропало. Рабочие не просили, они требовали, подтверждая свою волю к борьбе с лишениями и голоданием в дни забастовок Ноябрьская стачка 1902 года показала, какое это грозное оружие - массовая стачка. Но тогда еще некоторые пытались поправлять социал-демократических ораторов на сходках: "Политику не трожьте. Это нас не касаемо. Нам - чтобы работать было легше, да платили больше..."
В девятьсот пятом уже стало яснее, что без "политики", без свержения самодержавия рассчитывать на удовлетворение экономических требований и улучшение условий жизни невозможно. Политические лозунги стояли первыми, особенно в требованиях бастовавших на крупных ростовских предприятиях. Все более зримо вставали сходящиеся в решительной схватке труд и капитал. Все грознее поднимался вал рабочего протеста, пролетарской революции. Испугом и озлоблением дышали речи записных каламбуристов - гласных городской думы, запечатленные ростовской газетой:
"Эх, продули войну с Японией! А то-то хорошо бы забрать в плен всех япошек!.. Забрать - и взамен крепостных. Работайте, щучьи дети, на фабриках, заводах, в мастерских, на полях!.. Ни тебе забастовок, ни экспроприации и иллюминаций. Цены на работников низкие, подходящие!.. А в Японию выселить бы мужиков безземельных да рабочих. И была б у нас истинная благодать!.."
С горчинкой, с тревогой получались каламбуры.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'