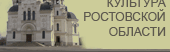
"Рыцари", "феи" и "ангелы"

Спать ложишься, и то думаешь, нет ли под кроватью какого-нибудь мазурика. Сядешь за пульку преферанса - под стол заглядываешь, как бы кто ноги тебе не оторвал...
Так рисовалась состоятельному обывателю картина ростовской жизни со стороны уголовной.
Представители преступного мира были известны под общим собирательным обозначением - короткие жакеты. Или, как звали в кругах интеллигентских, рыцари индустрии.
Последнее, конечно, более точно подчеркивало связь явлений: развитие капиталистической промышленности и рост преступности шли рядом и вместе. Капитализм, как и всюду, неизбежно порождал в России люмпен-пролетариат, этот, по определению Маркса, пассивный продукт гниения самых низших слоев.
Деклассированных, опустившихся людей Ростов влек, конечно, "коммерческим преуспеянием", надеждой подобрать, выклянчить крохи с купеческого стола, а то и отнять долю своих благ силой. К тому же прельщал обильный наплыв наивной, доверчивой сезоннической массы - ее и облапошить было легко, и укрыться в ней от ока закона легче. Да и природные условия здесь, на Юге России, были для всякого рода бездомных не в пример благоприятнее, чем в северных городах.
Прежде всего в глаза бросалось обилие нищих. Они стояли на папертях церквей и соборов, просили подаяние на базарах и улицах, переполняли ночлежки. Большинство шло на это из-за крайней нужды и физической немощи, когда уж не оставалось ничего другого, кроме как протянуть руку. Но нередки были и жертвы расчетливого "предпринимательства". Без всякой видимой причины город вдруг наводнялся нищими мальчишками. Начиналось полицейское выяснение: почему, откуда? И выявлялось, что в Ростов прибыло сразу несколько "антрепренеров" для сбора подаяния. И порой - из далекого далека. Однажды полиция задержала владельца такого пансиона - Афанасия Папа Триандофило, который привез ватагу мальчишек из Греции.
Но обычно причины резкого возрастания числа нищих были очевидны: неурожай и голод в Центральной России, эпидемия, погром. В 1903 году среди нищих отмечали большую прослойку прибывших из Кишинева, - люди бежали оттуда во время еврейского погрома. В 1907-м улицы Ростова заполнили нищие - беженцы из Баку, напуганные кровавой национальной резней на Кавказе.
"Заполнили все улицы и площади города, - свидетельствовал газетный репортер. - Столь большой приток бедного люда из Баку, этого города миллионеров... Мальчики и девочки десяти-четырнадцати лет, а то и моложе назойливо пристают ко всем, бегут за вагонами трамвая, в ожидании брошенной оттуда копейки..."
Уголовную иерархию прослеживали обычно с самого простого - с мошенничества, с тех, кто добывал себе на хлеб и водку мелким обманом.
... Из тихого полтавского хутора, может быть, из-под гоголевской Диканьки, заехал в шумный Ростов доверчивый украинец Алексей Черевань. Заехал в поисках работы и стал невольным героем происшествия, занявшего в газете полсотни строк петита.
На Старом базаре, где обычно шел наем прислуги, к Череваню подошла женщина:
- Не место ли ищешь, человече?
- Эге ж.
- Смотри-ка, на ловца и зверь бежит, - улыбнулась она. - А тут вот приказчик людей набирает...
- В иностранную скупку хлеба лакеем пойдешь? - спросил мужчина, которого Алексею назвали приказчиком. - Жалованья восемнадцать рублей в месяц. Контора дает казенное платье. Только рекомендации у тебя есть? Или залог - десять рублей?..
Рекомендаций, разумеется, не было, для залога у Череваня нашлось только восемь тщательно припрятанных рублей. "Приказчик" покривился, однако восемь рублей взял и, поводив Алексея по городу, привел его в третьеразрядную гостиницу на Почтовой улице.
- Грамотен?
- Ни.
"Приказчик" потребовал у гостиничной прислуги бумаги и чернил, написал условие, подписал его сам, дал на подпись женщине. Последним поставил на бумаге корявый крестик Черевань. После этого бумага с условием и восемь рублей залога на глазах его были запечатаны в конверт, а конверт вручен ему "в личные руки". Затем наниматель и нанятый дошли до почты. Здесь "приказчик" попросил мужика обождать и ушел - как в воду канул. Протомившись несколько часов, Черевань заподозрил неладное, распечатал пакет и нашел вместо пятирублевого золотого, завернутого в трехрублевую ассигнацию - копейку, обернутую сахарной бумагой. Случившийся тут "писатель" прочитал "условие": оно состояло из отборной брани и заключалось коротко: "Дурак".
Приезжих деревенских простаков ловили и на "подкидку". Навязавшийся к мужику по дороге словоохотливый попутчик вдруг замечал под ногами свернутый бумажный пакетик. Осмотревшись кругом, таинственно шептал:
- Деньги! Ты молчок! Поделим...
Мужик шел и радостно удивлялся: поди ж ты, в городе деньги и впрямь на улице валяются. Но через сотню шагов их нагонял третий - взволнованный и расстроенный.
- Деньги не поднимали? - спрашивал он. - Подумать только - триста рублей обронил!
- Нет, не поднимали, - лукавил мужик, помня уговор.
- А за пазухой что?
- Это мои собственные. Истинный бог! Тридцать два рубля...
"Потерявший" недоверчиво брал в руки платок с деньгами мужика, наскоро осматривал содержимое его и возвращал:
- Не мои.
Вмешивался первый попутчик мужика:
- Деньги я поднял. Но отдам, если треть получу, так по закону полагается. Пойдем в участок, при городовых все честь честью сделаем...
Мужик, естественно, участка опасался. Двое уходили без него. А он, развернув для верности платок со своими деньгами, потрясенно вскрикивал: вместо золотых лежал кусок каменного угля или несколько глиняных черепков. На глазах подменили. Тут уж поневоле приходилось бежать в участок:
- Обокрали! Все равно как щучка съела...
- Что ж ты рот раззявил, деревня?
- Да ведь кабы знатье...
Розыски преступников результата обычно не давали...
Всевозможные ловушки расставлялись для доверчивых на базарах, в людской толчее. "Китайский биллиард", "петля", "вертушка", "волчок" - подходи, угадывай, выигрывай. И тут же торговцы всякой мелочью. Продают по-настоящему, продают "с возвратом".
Два изрядно потертых субъекта соображают, как заработать на полбутылки. Один берет шапку - свою или компаньона, смотря по тому, чья лучше - и предлагает проходящим:
- Эй, купи шапку! По дешевке...
Простоволосый приятель следит за ним издали. Наконец, кажется, клюнуло: покупатель берет шапку, возвращает ее, берет снова, сует в руки продающему деньги. Первый уходит. Наступает время действовать второму, оставшемуся без шапки.
- А ну-ка, постой! Это ж моя шапка. Пока спал - украли. Городовой!..
- Да ты погоди, не шуми! - уговаривает его купивший шапку. Он уже и не рад своему дешевому приобретению, готов отдать "потерпевшему" шапку даром, только бы обойтись без полицейского протокола. Но его оппоненту этого мало, он требует еще и откупа. Незадачливый покупатель лезет в карман, достает двадцать - тридцать копеек: на, отвяжись!..
Похожий фарс разыгрывался и при инсценировке "кражи из дома". Только времени и участников требовалось больше.
Один или одна из компании - чаще всего это были женщины - нанимали на окраине лачугу. В нее перевозились вещи всех "членов товарищества". Делалось это демонстративно, чтобы соседи видели, что вещей много. Новая жиличка рекомендовалась поденщицей, ловко ввертывала словцо, что она не транжирка какая-нибудь, а накопительница добра.
Через некоторое время вещи из хаты тайно уносились. Уходя на "поденную", съемщица лачуги, как всегда, запирала дверь на замок. На этот раз он был "для блезиру", сломанный.
В течение дня около лачуги вертелся кто-нибудь из мужчин - участников шайки. Артистически разыгрывая роль, он старался обратить на себя внимание улицы. А женщина, возвратясь вечером домой, обнаруживала "кражу со взломом". Спектакль достигал высшей точки - вой потерпевшей, аханье соседок, вспоминавших мужчину, который, видимо, не зря околачивался тут с утра, вызов городового, протокол...
На другой день - заключительная сцена "продажи краденого". Впереди - мужчина из компании с вещами для продажи, за ним - издали наблюдающая "поденщица". Когда первому удавалось сбыть что-либо, вторая, выждав, пока он скроется в толпе, подходила к купившему, опознавала вещи и тащила "шпака" в полицию. Вещи ей, конечно, отдавали - за женщину был составленный накануне протокол.
Иногда ловили и продавца. Но он клялся и божился, что купил, скажем, шубейку, давно, у незнакомого человека.
Это называлось "самообкрадыванием".
На ближайших к Ростову перегонах железной дороги гастролировали в поездах "часовщики" - специалисты по сбыту никуда не годных медных часов. Крышки часов на этот случай бывали вызолочены.
"Часовщики" тоже действовали компаниями. Вместе с продающим ехали два-три "набойщика". Их обязанностью было отыскать пассажира попроще и с деньгами, а затем - набить цену.
- А они... того... не поддельные? - вопрошал покупатель, с сомнением разглядывая аляповатую позолоту.
- Из настоящего американского золота, - негромко журчал "часовщик". - Век бы не продал, да без денег остался - обокрали...
- А что, продаете? - вмешивался проходивший мимо "набойщик". - Почем?
- Продаю. Прошу двадцать, а он, - кивал "часовщик" в сторону покупателя, - только шесть дает. Смех!..
- А я двенадцать дам, - поднимал цену "набойщик".
- Но-но! - отталкивал его покупатель. - Две со-собаки дерутся, третья не лезь...
Подходили другие два "набойщика", прикладывали часы к уху, пробовали крышку на зуб. Сообщали друг другу:
- Настоящее американское! И идут здорово! Покупатель слушал и входил в раж: перекупят, сукины дети!
- Ну, вот что - двенадцать с полтиной - крайняя цена...
"Часовщик" огорченно махал рукой:
- Ладно, владей! Эх, часы мои, часики!..
Через неделю с часов слезала позолота, начинались поломки. Дешевка становилась тем, чем она и была на самом деле.
У фабрик и заводов в дни получки маячили "лотерейщики". Подальше от полицейского ока раскладывали в корзинах свой товар, с осторожностью пиликали на гармошках.
- А ну, попытай счастья, тащи билет! За пять копеек можешь выиграть сахарницу вон стеклянную, а то и гармошку. У нас не в благородном собрании, без обмана...
Охотники находились, тем более, что "лотерейщик" поначалу "заманивал": подсовывал билеты с пятачковыми выигрышами. А потом наступал азарт, пятаки один за другим бесследно исчезали в бездонных карманах жулика. И хорошо, если наивный рабочий мог вовремя прекратить игру...
Бесчисленных оттенков и "специальностей" был ростовский воровской мир. Базарные жулики - "халамидники", карманные воришки - "маровихеры", обиратели сонных - "монщики", квартирные воры - "домушники", специалисты по чужим карманным часам - "фотографы", - всех было в изобилии. Не зря в почтово-телеграфной конторе, например, висело предупреждающее объявление: "Просим публику следить за своими карманами и остерегаться воров".
Уголовная хроника в местных газетах никогда не испытывала недостатка в житейском материале. Что ни день - добрый десяток краж. О них писали то очень коротко:
"У жены подъесаула Агриппины Дубенковой украли ротонду на лисьем меху стоимостью двести рублей..."
То с более подробным изложением воровской технологии:
"Ночью произошла кража в обувном и шапочном магазине Антипова на Большой Садовой. Воры незаметно для сторожа пробрались на крышу и, просверлив отверстия, ножницами вырезали лист железа. С чердака при помощи коловорота сделали отверстия в потолке. Чтобы не осыпалась на пол штукатурка, приспособили дождевой зонт, который был просунут и развернут так, чтобы штукатурка падала на него. Похитили шапок на тысячу рублей. Ни уличный сторож, ни сторож внутри двора ничего не слыхали. Воры спускались в магазин по веревочной лестнице..."
Бывали кражи остроумные и неожиданные, как анекдоты.
На углу Большой Садовой и Малого проспекта заснул как-то на козлах пролетки легковой извозчик. Дело обычное: устал человек, ездоков ожидаючи, и вздремнул, благо дело было в центре города, безопасно. А проснувшись, обнаружил, что с лошади тем временем сняли шлею. Выпрягли лошадь, сняли все, что было можно снять, и никто этого не заметил.
Обокрали помощника присяжного поверенного Лившица. Увели, выражаясь на воровском жаргоне, пальто и сюртучную пару. Когда полиция разыскала вора, оказалось, что его уже не раз судили за кражи и что последний раз защитником его в суде был ни кто иной, как Лившиц.
На Юго-Восточной дороге у Ростова украли из вагона быка. Вообще-то там бывало всякое: сбрасывали на ходу поезда ящики с табаком и сахаром, связки кож. Но тут все-таки бык - живой, могучий, злой. И - никаких следов. Слышавшие о происшествии острили:
- Не захотел бык в Москву ехать, вот и сиганул из вагона на полном ходу...
Были и кражи озорные, в пику полиции. Однажды утром служащие склада земледельческих орудий французской фирмы Гулье и Бланшард обнаружили, что ночью воры сняли все железные вывески. Отвинтили болты, спустили тяжеленные листы вниз, унесли их куда-то и никто не видел, хотя склад находился в центре, на Большой Садовой, буквально у дверей его располагался полицейский пост, с вечера и до утра дежурили ночные стражники...
"Мастеров" такого рода водилось немало. Гремевший одно время в Ростове профессиональный вор Кувардин среди бела дня выкрал из музыкального магазина тяжелую фисгармонию*, а из квартиры врача - диван. И при этом сумел еще уйти от полиции, попавшись только значительно позже на нерасчетливо нахальной краже ящика шапок.
*(Клавишный музыкальный инструмент, приближающийся по типу к органу.)
Время от времени случались кражи особенно оригинального свойства: то обокрали магазин, владелец которого только что установил электрическую сигнализацию, то вор оставил после себя насмешливую памятку.
Горничная одной акушерки поставила в коридоре, выходящем во двор, самовар. Вошел прилично одетый мужчина и спросил, может ли он видеть барыню. Услышав в ответ, что акушерка спит, он вынул записную книжку, написал что-то и, вырвав листок, попросил горничную срочно передать записку. Та выполнила просьбу. Разбуженная акушерка с удивлением прочитала ...стихи:
Барыня спит, Самовар кипит... Когда барыню разбудят, Самовара уж не будет!
И действительно, когда акушерка и горничная выбежали в коридор, самовара уже не было.
Впрочем, опытные чины ростовской полиции таким оборотам не удивлялись. Среди воров встречались люди, образованные куда больше, чем нужно было для сочинения стишков.
Вполне интеллигентными были, например, воры, работавшие на "гут-морген". Хорошо одетый человек являлся днем в большой дом, облюбовывал лестницу, на которую выходили двери квартир врачей, адвокатов, входил в переднюю и, если никого не было, спокойно брал что поценнее. Увидя в передней прислугу, он тоже не терялся - просил проводить его к барину, разыгрывал перед ним пострадавшего и обращался с деликатной просьбой, как "коллега к коллеге" - выручить незначительной суммой для отъезда из города.
Много лет подряд появлялся в Ростове вор-аристократ Тимофей Кальнин, он же Сидоров. Дерзкий и опасный преступник, человек большого самообладания, он поражал своих невежественных товарищей изысканностью обращения, знанием нескольких иностранных языков, прекрасной игрой на рояле.
Не размениваясь на мелочи, Кальнин брался только за "операции" тысячные, выезжая для этого в Самару, Севастополь, Царицын. В Ростове у него "дел" не было - здесь он лишь отдыхал и сбывал краденое. Сюда же возвращался после очередной высылки в Сибирь и побега оттуда. А высылок и побегов было немало - восемь раз путешествовал Кальнин за Урал и обратно. В девятый раз он полиции не дался - настигнутый ею в Уфе, он вступил в перестрелку с городовыми и шестой, последней, пулей покончил с собой.
Скольким малозаметным обитателям дна кружили голову "подвиги" Кувардина или Кальнина! Особенно попавшим в этот мир подросткам.
Для них все начиналось обычно с куска хлеба. Поголодав несколько дней, попавший в беду мальчишка невольно совершал свою первую в жизни кражу - утаскивал кусок еды у зазевавшейся торговки или слишком лезущий в глаза кошелек с несколькими копейками.
Неловкий и неумелый воришка, конечно, застигался на месте преступления. А затем - полицейский участок, камера мирового судьи, тюрьма. Сообщая о таких "преступниках", даже фамилий их не называли:
"Мальчик пятнадцати лет задержан на площади Старого базара за кражу у женщины кошелька с двадцатью пятью копейками. Мировой судья, допросив свидетелей, приговорил подвергнуть его тюремному заключению на один месяц и пятнадцать дней".
В тюрьме, среди уголовников, мальчишка проходил воровскую науку и, выйдя на волю, становился уже настоящим преступником, одним из тех, оком благочестиво воздыхала церковь:
"Это - дети нашего простого православного народа, но дети уже своевольные, дети не труда, а вольной разгульной жизни, для которых кабак, или, как обыкновенно выражаются, "монополия", - родимый приют, темная ночь - друг сердечный, кровь человеческая - вода речная, чужая собственность - зло, с которым нужно всемерно бороться..."
А обозреватели ростовской жизни писали, пожалуй, даже с оттенком похвальбы:
"Таких воров, как в Ростове, больше нигде нет...
Скажите, где еще ухитрятся, пока вы мирно почиваете в комнате, из гостиной утащить ваши ботинки и платье?
Где ухитрятся "присвоить" кипящий на вашей террасе самовар со всем чайным прибором и даже с банкой только что сваренного варенья?
Где "рыцари индустрии" столь изобретательны, что не боятся даже электрических капканов и решительно ни в грош не ставят никаких запоров?
... Если мне даже скажут завтра, что какой-нибудь вор ухитрился вытащить в оконную форточку концертный рояль Беккера, - я поверю без рассуждений.
Для ростовских воров нет ничего невозможного".
Воровство признавалось как факт, как зло, но зло неизбежное. При случае из него и люди "степенные" пытались извлечь выгоду для себя.
У воров, разумеется, были свои посредники, скупщики краденого - "блатер-каины" - такие же представители уголовного дна. Но не брезгали краденым и торговцы, имевшие лавочки на базарах. Об одной такой покупке со смехом рассказывал в свое время весь торговый Ростов.
Владельцу лавочки на Покровском базаре под вечер предложили "задешево" купить большой медный самовар. Покупка, как водилось в таких случаях, произведена была молниеносно: купцу показали товар из-под полы и тут же, по получении нескольких монет, передали из рук в руки. Он спрятал самовар в дальнем углу лавки, под кучей всякого хлама и, довольный, отправился домой. А там его встретили известием, что из квартиры стащили самовар. На следующий день ему только и осталось убедиться, что вчерашняя покупка - его собственная вещь.
Но жулик и вор - это было еще не самое страшное зло. Им не требовалось большего, чем кошелек. Мастера "мокрых дел" покушались сразу и на кошелек и на жизнь.
В 1903 году город взбудоражила целая серия разбойных нападений и убийств. Героем их, как стало известно, был матерый уголовник Варфоломей Стоян. Полиции удалось выследить и его квартиру - "хазу" на Колодезной улице Затемерницкого поселения. Дом обложил большой наряд городовых во главе с помощником пристава Блажковым. Вскоре весь Темерник был разбужен револьверной перестрелкой. Заметив облаву, Стоян выпрыгнул из окна второго этажа, в упор выстрелил в городового, поставленного под окном, и бросился бежать, хитроумно путая следы, через заборы, по крышам домов. Под выстрелами полиции он переплыл Темерник и скрылся в Максимовском саду. А отсюда уж дорог было много, и в притоны, и в другие "малины" и "хазы".
Перечень уголовных происшествий за сутки иногда бывал столь велик, что даже ростовские газеты начинали не просто регистрировать их, а взывать к общественному мнению. В том же 1903 году в одной из газет появилась корреспонденция с протестом против замалчивания "темных сторон" жизни.
"Пять случаев дерзкого ограбления среди бела дня в понедельник в Ростове, чуть ли не в центре города! - восклицал корреспондент. - Если бы у меня была своя газета, во вторник я бы выпустил номер, в котором вместо всякого текста были бы напечатаны следующие слова: "Граждане! Вчера в нашем городе было пять грабежей и одно убийство. Подумайте об этом". И больше - ничего..."
Издавна Ростов славился многочисленными трущобами. Писатель Алексей Свирский, хорошо изучивший их во время своих бездомных скитаний, позже, став сотрудником "Ростовских-на-Дону известий", замечал, что своими трущобами сравнительно небольшой по населению Ростов не уступал самым густонаселенным городам России.
"Ростовские "Окаянка", "Полтавцевка", "Прохоровка", "Гаврюшка", "Дон" и другие рассадники пьянства, воровства и огульного разврата, - писал он в сборнике очерков "Ростовские трущобы", - смело могут соперничать с петербургской "Вяземкой", московской "Хитровкой", одесской "Молдаванкой", харьковскими "Иорданом" и "Востоком" и многими другими знаменитыми трущобами".
К началу нового века эти притоны на Большом и Таганрогском проспектах у спусков к Дону были закрыты - слишком уж они бросались в глаза. Но на смену им пришли ничуть не лучшие "отели для бывших людей", только более громко названные гостиницами и меблированными комнатами. Об обстановке в них местная газета в 1903 году рассказывала:
"...Невыносимая, убийственная вонь... Грязь всюду и везде... Мириады паразитов... В помещении на 70-80 человек - 215. Спят на нарах, под нарами, на сырых и грязных кирпичах. Новому постояльцу приходится добираться до своего "номера" по рукам, ногам и туловищам спящих. Это в "дворянском" отделении, где взимают гривенник. Что делается в другом, пятачковом? И это не притон, не скрытый от санитарного надзора тайный ночлежный приют, а гостиница Мурата Лалазарова в центре города, на Большом проспекте..."
Такой же была и соседняя гостиница Рустамова. А дворы Гербера - по Никольскому переулку, между Большой Садовой и Пушкинской, и Домбровского - в Казанском переулке - иначе и не именовались, как "первая и вторая ростовская Вяземская лавра", по аналогии со знаменитыми трущобами Петербурга. Тут, как в библейском Ноевом ковчеге, было набито битком - и ремесленники, и нищие, и уголовники.
"Дом, принадлежащий г. Герберу, по Никольскому переулку, между Большой Садовой и Пушкинской улицами... лежит в одном из самых глубоких мест балки и неоднократно уже затоплялся во время дождей, - свидетельствовал в 1898 году корреспондент "Приазовского края". - Он весь изрыт всевозможными постройками и пристройками. Последние делятся на крохотные квартирки, битком набитые жильцами, которые, в свою очередь, отдают от себя в наем таким же, как они сами, беднякам отдельные углы... Условия жизни обитателей этого двора не поддаются описанию: бедность крайняя, вопиющая. В одной крохотной комнатке, потолок которой можно достать рукою, живут пять или шесть человек. Не пустуют даже такие подвальные этажи, в которые никогда не проникает свет..."
В Казанском переулке находился большой двор мещанина Кузьмина, известный в преступном мире под именем "хрустального дворца". Отсюда обычно ростовская полиция начинала розыск виновных во всех наиболее серьезных преступлениях.
Впрочем, в летнее время скрывавшийся от закона беспаспортный люд находил пристанище в деревянных рядах базаров, в роще и пакгаузах на Заречной, на детской площадке и скамейках городского сада. С наступлением холодов отыскивались "спальные места" под скамейками железнодорожного вокзала, на чердаках обывательских домов, в сараях.
Всем городским жителям известны были места наиболее вероятных встреч с грабителями - "знаменитый Темеркицкий мост", граница между Ростовом и Нахичеванью. С наступлением темноты ни одна женщина не решалась идти здесь без провожатого, а мужчины, если неволя заставляла проходить этими гиблыми местами, запасались револьверами.
Но был и еще один - самый страшный адрес. Автор романа "Стучит рабочая кровь" Е. Бражнев (под этим псевдонимом выступал Евгений Трифонов) указывал его так:
"... Нахичеванский собор, Бульварная площадь, коротенькие кварталы Второй Успенской улицы, 31-я, 33-я, 35-я линии - окраина Нахичевани.
Здесь был Горячий край..."
Евгений Трифонов знал эти места не понаслышке. Будущий начальник десятка на баррикадах 1905 года, комиссар на фронтах гражданской войны, видный деятель нашей партии, он прошел огромную школу жизни. Прежде чем стать рабочим ростовских заводов, он по молодости попал на уголовное дно, но нашел в себе силы порвать с ним.
"Горячий край" населяли "вентерюшники", или, как их чаще звали, "серые". Это были откровенные бандиты, ненавистные всему городу и особенно рабочему люду. Драки молодых рабочих с "серыми" были беспощадны, но чаще всего "серые" нападали бесчестно - впятером, вдесятером на одного. Грабили, отнимали деньги, издевались.
У "серых" была своего рода форма - красный шелковый кушак, из-под которого выпускалась никелированная цепочка финского ножа. Зловеще звучало их предупреждение:
- Не бойсь меня, а бойсь моего красного пояса!..
Окружив очередную жертву, хладнокровно обобрав лишенного возможности сопротивляться "грача", "серые" командовали:
- А ну, поплавай!.. Поплавай, тебе говорят!..
Валили человека с ног, гоготали, глядя, как он барахтается в пыли.
- Ну, будет. Вылазь, что ли. Ишь, расплескался!.. И шли дальше - жестокие, тупые, безжалостные.
Ни дать, ни взять - волки.
Самыми отверженными в этом мире отверженных были, пожалуй, женщины. Продажные женщины из домов терпимости, женщины, попавшие в грязные и зловонные трущобы.
Гнусный промысел был доходен. И потому, невзирая на целые кварталы "скверных домов" по Сенной, а затем по Черняевской улицам, неразборчивые любители наживы основывали тайные притоны разврата в самом центре города. Переодетые полицейские обнаруживали их в самых неожиданных местах - в квасных, лимонадных, молочных и всяких других лавчонках.
Состав жертв общественного темперамента, как называли проституток, пополнялся с помощью сутенеров - "зухеров". Общеизвестным центром их грязной работы была Одесса, но и Ростов они не обходили своим вниманием.
Нередкой была, например, такая картинка.
По базару, среди нанимающейся прислуги, расхаживает мужчина, предлагая женщинам места горничных. Пожилые и некрасивые его не интересуют, замужние тоже.
- Мне нужны только девушки!.. Услыхавший это старый торговец советует девушкам:
- Не нанимайтесь, попадете в дом разврата. Наниматель негодует: это поклеп на него, но как только посылают за городовым, исчезает.
Характерный, с этой точки зрения, случай произошел в 1904 году с молодыми крестьянками Воронежской губернии Евдокией Карловой и Татьяной Зиминой. Он был подробно описан в ростовской газете - вероятно, для предупреждения других.
На Новом базаре молодые, здоровые и красивые женщины привлекли внимание старика, назвавшегося маклером по приисканию мест. Он предложил им поступить в кухарки с жалованьем десять рублей в месяц. Женщины обрадовались, отдали в залог свои последние деньги.
Старик привел их в дом. Там крестьянок осмотрела какая-то дама и, ничего не сказав, кивнула в знак одобрения головой. Их отвели в комнату нижнего этажа, закрыли на замок, но обед принесли хороший, даже с вином.
Женщины ободрились, освоились и, помня, что наняты кухарками, стали просить какую-нибудь работу. Их попросили обождать.
На третий день к ним явилась пожилая экономка, принесла банку с невиданной в деревне мукой - пудрой и странными ножницами - щипцами для завивки волос. Соответственно "украсив" девушек, она одела их в нарядные шелковые платья и повела наверх, в зал.
- У хозяйки праздник и прислуга будет танцевать, - объяснила экономка.
В ярко освещенном зале было много нарядно одетых женщин. Одни танцевали, другие прогуливались с мужчинами. Двое мужчин подошли к Евдокии и Татьяне, после короткого знакомства повели их в отдельные комнаты.
Заподозрив неладное, девушки подняли крик, выбежали в коридор и, добравшись до своей полуподвальной каморки, закрылись в ней. Когда наверху все стихло, они открыли окно и принялись звать на помощь. Им повезло. Случайный прохожий помог девушкам выбраться на улицу, отвел в участок. И только там они узнали, что попали было в "веселый дом" Ксении Григоренковой.
Но вообще-то такие дела обычно огласки не вызывали. Возьмите "Энциклопедический словарь" Брокгауза и Эфрона, том 66 издания 1901 года. Найдите "Торговлю женщинами". И прочтете:
"...У нас в действующем уложении о наказаниях (изд. 1885 г.) предусматривается (как наказуемая) только продажа женщин в рабство азиатам (ст. 1410), вследствие чего торговцы женщинами, продающие свой товар не в Турцию и Египет, а в Европу или Америку, остаются безнаказанными...."
Что уж говорить о продаже на "внутренний рынок"!..
Покончив с "рыцарями" и "феями", нельзя, вероятно, не сказать и об "ангелах улицы".
Так называли подкидышей.
Поздним вечером в дом звонили или просто стучали. Вышедший хозяин или дворник тщетно пытался узнать, кто звонил или стучал - за дверью уже никого не было. А у подъезда пищал и ворочался завернутый в пеленки неворожденный ребенок. На цепочке креста привязана была тряпочка, в ней - записка: "Фидося. Родилась 17 мая. Крещена". И все. Единственное, что могла дать дочери мать, по большей части сама бездомная и полуголодная.
Иногда подкидыша усыновляли нашедшие. Но это случалось редко. Обычно новоявленного "ангела" тут же несли в полицейский участок. Судьбу его определял пристав.
До 1905 года дело решалось довольно просто. Подкидышей принимали на временное призрение жены полицейских - городовихи. Это был их побочный заработок. За короткое содержание младенца городская дума платила пять рублей. Полтинник при этом городовихи умудрялись сэкономить. Как при такой экономии несчастного подкидыша кормили, как за ним ухаживали, - можно догадаться и не обладая большой фантазией.
А затем ребенка отправляли в Таганрогский или Новочеркасский сиропитательный дом. Довезут, выживет - его счастье.
В пятом году городская дума "за отсутствием средств" стала платать за временное содержание подкидышей только три рубля. Городовихи взбунтовались, отказались кормить "байстрюков" без барыша. В участках подолгу искали сердобольных, кто согласился бы держать несколько дней ребенка. В газетах задавался один и тот же риторический вопрос:
- Неужели в Ростове нет возможности открыть хотя бы временный приют для подкидышей?..
Возможности, увы, так и не нашлось.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'