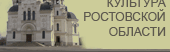
Его небо (П. Лебеденко)
Это было его небо, и он знал, что будет драться за него до конца. Внизу лежала его земля; он словно чувствовал, как стонет она, израненная и горячая, он видел, как рвутся там бомбы, и ему казалось, что кто-то рвет его тело. Но боль ощущалась не в теле, а в душе. И он застонал от этой душевной боли. Ведомый, капитан Чепинога, тревожно спросил в микрофон:
- Что с тобой, Николай? Ты ранен? В ответ Гулаев коротко бросил:
- Прикрой, атакую!
Эскадрилья вверху вела бой с большой группой "мессершмиттов". Трассы чертили небо, как ночные астероиды, а когда взрывались бензиновые баки, оно вспыхивало и окутывалось клубами огня и дыма.
Девятка Ю-87 прорвалась вперед. Гулаев видел, как первая тройка уже приготовилась выйти на цель. Он снова повторил:
- Атакую!
Короткая очередь врезалась в черный крест - шлейф смрадного дыма потянулся книзу, строй фашистов распался.
Гулаев смахнул со лба капли пота, огляделся. Самолет ведомого, Чепиноги, пронесся с левого борта, скрылся в дыму. Гулаев крикнул:
- Назад!
Но Чепинога не мог возвратиться: он уже дрался с двумя "мессерами". Они сжимали его, брали в клещи. Дав полный газ, Гулаев догнал ведомого в тот момент, когда один из "мессеров" атаковал Чепиногу с хвоста. Это была последняя в жизни немецкого летчика атака. Через две-три секунды "мессер", объятый пламенем, падал, и Гулаев слышал в своем шлемофоне полный тоски и страха предсмертный вопль фашиста...
В бою до предела напрягается не только каждая мышца, но еще более - каждая клетка нерва. Постороннему взгляду может показаться, что летчик хладнокровен, спокоен словно он выключил все свои эмоции и подчиняется только каким-то неведомым законам, управляющим его волей. В действительности это далеко не так. Именно воля летчика управляет всеми его эмоциями, та воля, которую человек воспитывал и закалял в себе годами, которую воспитывали в нем его учителя и командиры. Для размышлений и анализов в воздушном бою не остается ни одной секунды. Когда враг идет в лобовую атаку, летчик не в состоянии даже мысленно набросать схему обороны или контратаки. Он должен действовать, а не анализировать. Действовать мгновенно, в полном смысле слова, молниеносно. Каждый миг равен жизни или смерти. И подчинить себя, каждое свое действие тому сгустку воли, который, как горячая кровь, пульсирует в сердце, - в этом, пожалуй, заключается искусство летчика драться и побеждать.
Гулаев обладал таким искусством в полной мере. Его горячая любовь к Родине, большая душа человека, который поклялся с честью пронести высокое звание коммуниста через всю жизнь, питали его волю и делали ее похожей на твердый сплав. Ему в то время было двадцать пять лет, он только начал жить и любил жизнь так, как может любить ее молодость. Думал ли он о смерти? Он, конечно, знал, что она рядом с ним всегда, вон там, за плексигласовым фонарем машины, она затаилась в какой-то пулеметной очереди врага. Но летчик знал и другое: смерть может остановить его сердце, но не в силах обессмертить дух его народа, а он - частичка этого народа, и он так же бессмертен, как его народ. Сознание, что его жизнь будет продолжаться даже тогда, когда сердце перестанет биться, гнало прочь чувство страха перед смертью. И это сознание также питало его волю.
... Сбитый самолет продолжал падать, и предсмертный вопль фашиста удалялся и затухал. На глазах у Гулаева обрывалась чья-то жизнь, но это не вызывало у него никаких сожалений: смерть врага очищала воздух, рождала жизнь на земле.
"Если гуманизм не борется - он умирает", - говорил Гулаев. Его гуманизм заключался в том, чтобы сохранить сотни жизней от бомб врага, залетевшего в русское небо. Это был гуманизм честного солдата, коммуниста, для которого любовь к жизни заключалась в любви к своей Родине, к своему народу. Когда он из пулемета расстреливал фашистского летчика, он исполнял приговор своей Родины. Суровый, но справедливый приговор. Пальцы его не дрожали, нажимая на гашетку, сердце билось учащенно не от волнения, а от ненависти. Его ненависть рождалась от светлой и неистребимой любви к жизни...
Гулаев проводил взглядом исчезнувший в клубе дыма самолет фашиста и откинулся на спинку сиденья. От напряжения боя болело все тело, ноги непроизвольно вздрагивали на педалях, на глаза скатывались капли пота. Он расслабил мышцы. Оказывается, и в бою можно выкроить время для отдыха! Неважно, что это время исчисляется пятью секундами. Вот он уже отдохнул, вернул своим мускулам твердость и гибкость, теперь снова можно ринуться в бой...
Да, снова. "Юнкере", с желтым драконом на фюзеляже, слегка накренился, готовясь войти в пике. Резко толкнув сектор газа, Гулаев сделал "горку" и почти вплотную подошел к бомбардировщику. Он на миг увидел сузившиеся глаза немецкого стрелка. Немец тоже, конечно, видел глаза Гулаева, внешне спокойные, но с таким неукротимым огнем, который обжигает врага. Расстояние между самолетами сокращалось, противники выжидали удобный момент, чтобы ударить наверняка. Это не было игрой нервов - это был расчет, точный расчет, ошибка в котором неизбежно должна привести к гибели одного и к торжеству другого. Им казалось, что в безбрежном океане существуют только они и вокруг них все - и это небо, и притихшая земля - замерло в ожидании трагической развязки. Они не слышали ни рева моторов, ни ударов своих сердец, они ничего не видели, кроме глаз друг друга. Глаз и рук. Гулаев заметил, как немец медленно, стараясь обмануть его бдительность, подворачивает турель влево. На градус, еще на градус, еще... Вот сейчас он резко рванет ее в сторону и нажмет на гашетку. Остались не секунды, а миг, и этот миг решит все...
Гулаев опередил немца ровно на столько, сколько требовалось, чтобы не дать тому возможности сделать последнее движение. Короткая трасса разбила фонарь, немецкий стрелок дернулся на сиденье и уронил голову на турель. С ним все было кончено. Теперь можно подвернуть свою машину и ударить в летчика, в моторы, в баки. В прицельной рамке, как на миниатюрном экране, появились передний фонарь и голова летчика в шлеме. Не торопясь, Гулаев нажал на гашетку, раз, другой... Пулемет молчал: не осталось ни одного патрона. Как-то интуитивно почувствовал это и немецкий летчик - он вдруг обернулся, и рот его оскалился в торжествующей улыбке.
- Рано радуешься! - сквозь зубы прошептал Гулаев.
Решение идти на таран возникло мгновенно. Гулаев знал, что может погибнуть и сам, но, как всегда, думал сейчас не о своей возможной смерти, а о жизни сотен людей, которую могут оборвать бомбы этого стервятника, если он уйдет целым.
Пристроившись в хвост бомбардировщика, Гулаев подходил к нему все ближе и ближе. Оставались считанные метры. Самолет вздрагивал, он будто чувствовал крайнее напряжение летчика...
Взяв небольшой крен, Гулаев концом крыла своего истребителя резанул по хвосту фашистского самолета. Резкий толчок, словно через тело машины прошла судорога, - и Гулаев увидел, как бомбардировщик начал разваливаться на части. И еще он увидел, как задымленный купол неба стал вращаться слева направо, почувствовал, как непреодолимая сила вдавливает его тело в сиденье, наваливается на усталые веки.
"Штопор! - понял летчик. - Штопор, из которого не выйдешь".
Огромным усилием воли он рванул фонарь, приподнялся, пытаясь выброситься за борт машины. Ветер отбросил его тело назад. Он ударился головой о броневую спинку, и темные круги поплыли перед глазами.
"Только не терять сознания! - думал летчик. - Только не раскисать!"
Земля мчалась навстречу, кружилась зелень лугов, синяя речушка замыкала петлю, и, будто игрушечные, водили хоровод деревья. Отдышавшись, Гулаев снова привстал на сиденье, перевалился через борт. Еще одно усилие, еще одно... И вот он уже падает в бездну, оглушенный свистом ветра и радостью. Правая рука ищет кольцо парашюта, ищет лихорадочно и не находит. Мысль острая, как боль, мелькает в голове, шальная пуля сбила кольцо в бою... Значит, конец!..
А земля летит навстречу, та земля, за которую он дрался, которая была дороже жизни.
Много ли надо времени, чтобы в предсмертный час вспомнить все, чем он жил свои двадцать пять лет, четверть короткого века?! Станица Аксайская на Дону; крутогорье, с которого он спускался к реке ловить сазанов; завод, где работал слесарем. Худенькая, всегда торопливая мать и добродушный, такой родной голос отца. Он всегда был не только отцом, но и другом. Было, все было, все это прошлое. Впереди через несколько минут - смерть...
И вдруг пальцы нащупывают на левой стороне груди нечто такое, от чего кровь ударяет в голову и на миг захватывает дыхание. Пальцы нащупывают обрывок вытяжного парашютного тросика, крохотный обрывок, и они вцепляются в него, как в жизнь. В жизнь, ставшую в эти предсмертные секунды особенно дорогой и желанной, потому что человек, так близко взглянувший в глаза смерти, не может не оценить бурной радости своего бытия. Жизнь продолжается, все, что было в прошлом, не исчезнет, не уйдет во мрак...
Через три часа Гулаев был уже в своей части. Ему чуть не сломали шею, когда подкидывали в воздух, чуть не задушили в объятиях сильные руки друзей. А еще через час он кричал в микрофон своему ведомому, капитану Чепиноге: - Прикрой, атакую!
Это один из многочисленных эпизодов, составляющих боевую биографию летчика Николая Гулаева, бывшего слесаря, ныне дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации. Их было много, таких эпизодов. Двести сорок успешных боевых вылетов, десятки ожесточенных воздушных боев против немецких асов из лучших фашистских эскадрилий - "Рихтгофен", "Мильдерс", "Ас-Пик".
В воздушных боях он сбил пятьдесят семь самолетов - истребителей, бомбардировщиков, разведчиков. Это примерно два полка вражеской авиации! Сколько жизней спас прославленный летчик за годы войны от бомб и пуль фашистских бандитов, сколько заводов, фабрик, домов осталось целыми благодаря тому, что его карающая рука настигала врагов в нашем небе!
Родина знает, Родина помнит заслуги своих, верных сынов. Две Золотые Звезды, сияющие на груди Н. Д. Гулаева, - это признательность Родины, ее благодарность.
Кончились грозные годы войны, остыла земля от горячего железа, развеялись тучи над нашим небом. И, как многих других воинов, потянуло Николая Дмитриевича на тихий Дон, захотелось, как прежде, надеть синий комбинезон слесаря и взять в руки молоток и зубило. Он любил прежнюю профессию, мечтал снова стать в строй славной рабочей гвардии. Но он твердо знал: тучи могут опять сгуститься, поверженный враг когда-нибудь снова может выползти из своей норы.
И вот он в стенах военной академии, куда собралось много его боевых друзей. Опираясь на огромный фронтовой опыт, Гулаев оттачивает свое летное мастерство, доводит его до самых тонких, самых совершенных форм.
... Годы идут, и мужают люди. Бывший рабочий паренек стал генералом. Уже и виски его тронуты серебром седины, а сердце остается горячим и беспокойным - сердце коммуниста, которому Родина дала так много и который в любое время готов отдать Родине всего себя.
Всего себя, до конца, до последнего дыхания.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'