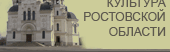
Часть третья. Окраина
Более чем сто шестьдесят лет спустя после событий, вписанных в историю солдатами Кутузова, казаками атамана Платова, громившими Наполеона, ранним июльским утром в вагоне парижского метрополитена ехал ничем особенным не выделявшийся среди пассажиров его возраста человек в светло-сером костюме. День стоял жаркий, и солнце уже успело опалтть ему залысины, покрыв их розовым цветом. В кармане у этого человека лежал паспорт в красной обложке с золоченым гербом на имя советского писателя Вениамина Александровича Якушева. На одной из станций пассажир вышел из вагона и, расставшись с прохладой тоннеля, поднялся наверх.
Зной разгоревшегося летнего дня и разноязычный говор людей, прибывающих с разных концов мира на экскурсии в этот район французской столицы, буквально оглушили его. Пестрота одеяний туристов, их улыбки и жесты утверждали то доброе, почти веселое настроение, которое охватывало в это утро гостей Парижа. Стараясь как можно дольше не приводить в действие свой ограниченный запас французских слов, Вениамин Якушев, ни у кого ни о чем не спрашивая, протискиваясь через толпу, стал подниматься вверх по крутой торговой улочке, мимо многочисленных лавочек и маленьких магазинчиков, где шла бойкая распродажа товаров по сниженным ценам. Витрины, на которых красной чертой были перекрещены цены вчерашнего дня и подчеркнуты более низкие сегодняшнего, его нисколько не интересовали, а жажда начинала мучить. И на углу двух узеньких, разбегающихся ручейками в разные стороны улочек, у входа в битком набитый кабачок, на входной двери которого была изображена аппетитно пенящаяся кружка светлого пива, писатель остановился и, подумав, переступил порог. Опустошив большой бокал, он коротко спросил у веселого розовощекого бармена, старательно вытиравшего со лба пот, далеко ли до знаменитого холма Монмартр, с которого обозревается Париж, и где находится историческое "бистро".
- Монмартр там, - указал шумный бармен на холм, к которому по ступенькам каменных лестниц устремлялись толпы туристов, а по рельсам поднимались вагончики фуникулера. - Что же касается "бистро", то самое лучшее "бистро" Парижа здесь, - и он гордо ткнул пальцем в пол своего кабачка. - Или вам не понравилось мое пиво?
- О! Мсье! Зачем же заниматься самоуничижением? Ваше пиво великолепно. Но я ищу прежде всего не пиво, а самое первое "бистро" Парижа, - возразил Якушев, которому уже не хватало слов для беседы на французском языке, и прибавил отрывисто: - Первое "бистро" - это Наполеон... Кутузов... атаман Платов... русские казаки... понимаете?
- О-ля-ля! - вскричал бармен. - Бистро "Русский казак".
С этими словами он вывел посетителя на улицу и, показав на вершину холма, стал бойко пояснять, по нескольку раз повторяя наиболее важное. Из всей его пространной речи Якушев уяснил, что надо подняться наверх, миновать площадь, на которой парижские художники торгуют своими картинами, и потом свернуть влево.
Площадь эта давно уже стала обителью художников как известных, заглядывающих сюда не столь часто, так и тех, о ком говорят: "без роду и племени". Несмотря на ранний час, она кишела людьми. Веселая разноголосица обрушилась на Вениамина. Якушева, и он стал с интересом наблюдать за происходящим.
На Монмартре художники занимались не только сбытом своих произведений, споря с покупателями или заказчиками портретов, на которых живописцы увековечили их тут же за сто пятьдесят - двести франков, порою ведя ожесточенные торги. Сюда приходили и подлинные мастера в своей извечной надежде разыскать молодые дарования, обнадежить их и окрылить.
Якушев вспомнил, что когда-то давно кто-то ему говорил, будто бы на этой площади собираются только нищие, потерявшие цель в жизни художники, безработные. И самые неудачливые из них прямо с этого холма бросаются в Сену головой вниз. Он усмехнулся, подумав о том, что с холма Монмартр при всем желании головой вниз в Сену не бросишься: Сена отсюда далеко. К нему подошла девушка лет двадцати двух в черном шерстяном платье с длинными рукавами, слегка измазанными краской. Пышущее здоровьем привлекательное лицо с веселыми серыми глазами, улыбка ненакрашенных губ.
- Я вам отлично сделаю портрет углем. Сто девяносто франков. Посмотрите, у меня какие портреты получаются.
Девушка явно не была похожа на тех особ, которые замыслили бросаться головой вниз в Сену. При этой мысли Якушев рассмеялся.
- О! Зачем так, - оскорбилась девушка, - не надо смеяться, я профессионалка.
Якушев вздохнул, подумав о том, что всех денег, выделенных на его короткое пребывание в столице Франции, едва-едва хватит на такой портрет, и поспешил ретироваться.
И все-таки замерло сердце, нарушилось дыхание, когда увидел он желто-коричневый фасад с мемориальной, поблекшей от времени дощечкой. Среди своих соседей домик этот был старенький и незатейливый. Два этажа и мансарда. Несколько столиков на улице для любителей пить пиво под открытым небом. Якушев приблизился и прочел: "Монмартр. Ресторан "Мамаша Катрин". Обеды под музыку. Террасы на площади. Театр и сад".
И ниже - те строки, ради которых приехал он сюда. Строки, сразу заполнившие все его сердце: "30 марта 1814 года казаки впервые употребили здесь свое знаменитое "быстро", и на этом месте возник достойный предок наших "бистро".
Стоя у входа в самое первое парижское "бистро", Вениамин Якушев думал о том, как его прадед Андрей Якушев в предпоследний день марта 1814 года ворвался сюда со своими однополчанами почти на рассвете, хорошо понимая, что это один из самых последних дней войны с бонапартовским отборным войском, войны победной и уже по-настоящему завершенной. Зима в тот год была достаточно суровой, вьюжливый снег срывался с неба даже в самые последние дни марта. Вероятно, Андрей Якушев со своими однополчанами изрядно перед этим намерзся и наголодался, занимая этот холм. Может быть, они даже стучали прикладами ружей и задубленными от ветра и метели кулаками в эту дверь, рядом с которой прибита теперь к стене мемориальная доска, когда растерявшийся хозяин кабачка, еще сонный и плохо осмысливающий действительность, дрожал при виде русских казаков, о которых рассказывали были и небылицы. А они хриплыми голосами требовали вина и водки, чтобы обогреться после долгого и трудного победного марша, и приговаривали при этом повелительно:
- Быстро, быстро!
Жаркое вино растекалось по жилам, грея тело и душу, делая более оживленной и быстрой речь.
- Слышь, Андрей! - кричал Якушеву кто-то из казаков,- а за своего деда Аникина ты осушил бокал аль не? Помянем его, героя!..
Отходчиво русское сердце. После первого стакана казаки становились добрее, глаза их наполнялись мягким светом. После второго речь текла быстрее и громче, после третьего они, уже всхлипывая, поминали всех тех, кто пе дошел до Парижа и в смутной тоске по родине пал на заснеженных полях Восточной Пруссии или Литвы и Польши, в сражениях с Наполеоном. А после четвертого некоторые даже рыдали при упоминании имен и фамилий тех, кому не суждено было увидеть ни Монмартра, ни Булонского леса, ни Елисейских полей.
- Эх, а какой у нас был командир майор Денисов, царство ему небесное...
- А мой Лука Андреевич Аникин заместо отца родного нам с Любашей был...
- А Дениска Чеботарев, отваги полный казак, что ни перед богом, ни перед чертом во фрунт никогда не становился!..
Пятый стакан хозяин, убедившийся, что незваные ночные пришельцы не собираются чинить никакого зла, пил уже с ними вместе, а осушив, кричал своей напуганной жене:
- Побыстрей поворачивайся, старая, кати новый бочонок!
И, подражая казакам, выкрикивал:
- Не видишь, у ребят глотки пересохли! Бистро, бистро, старая! Бог с ним, с Наполеоном. Он, конечно, великий человек, но ты посмотри, какие это прекрасные парни с русского Дона.
И, разгадав смысл этих слов, бия себя в грудь кулаком, простуженным голосом перебивал его Андрей Якушев:
- Ты хороший детина, Пьер, да только пойми: разве бы мы притащились сюда с тихого Дона? Нам и там не скучно жилось. И твой Наполеон пусть бы жил да поживал. Нам тьфу на него, и только! Но ведь он же нашу Москву сжег, злыдень... Вот мы и оседлали коней, взялись за сабли да пушчонки - и сюда. И дошли, как видишь! И получилось это потому, что донскому казаку, как наш батюшка Матвей Иваныч Платов сказывает, и окиян но колено, и сам черт не страшен. А ты, Пьер, не боись. Мы не башибузуки какие, чтобы мирное население обижать. Да нам бы за такое дело Матвей Иваныч Платов такую ижицу прописал!.. А теперь распорядись еще по одному стаканчику, любезный, а то мои казаки уже отходить ко сну начинают.
И снова кричал в темную спальню хозяин:
- Веселее, старая. Бистро, бистро!
С тех пор и укоренилось это словечко. И десятки небольших кабачков в разных концах Парижа, в основном на его окраинных улицах, по которым редко когда проезжала карета аристократа, были переименованы в "бистро". А на первом из них появилась вывеска с объяснением этого названия.
...Якушев стоит на самой вершине Монмартра, откуда хорошо обозревается далеко-далеко простирающийся Париж. В мареве теплого и ясного летнего дня, в отблесках солнца взору предстают многоэтажные дома-великаны самой новейшей постройки, проспекты и площади, заводские трубы, исторгающие дым. Где-то далеко от храма, когда-то построенного на Монмартре, синяя черта земли смыкается с такой же синей чертой неба. Вениамин Александрович смотрит на эту загадочную, чуть колеблющуюся зыбкую черту, и ему кажется, что именно оттуда входили в Париж полки донского атамана Платова в предпоследний день марта 1814 года, и как дыбились под всадниками донские кони после трудного последнего перехода. И ему будто бы даже слышится в шуме большого города звон копыт белого скакуна, так похожего на Зяблика, на котором въехал в столицу наполеоновской Франции его знаменитый дед, беглый холоп Андрей Якушев.
После гибели брата осторожный Александр Сергеевич запретил своим сыновьям несколько дней выходить на улицу и рассказывать что-либо о нем посторонним. Тому было несколько причин. Прежде всего, он боялся мести со стороны затаившихся и еще не полностью выловленных в Новочеркасске белобандитов. Во-вторых, и ему, и Надежде Яковлевне было бы очень тяжело отвечать на бесчисленные расспросы соседей по кварталу.
Здесь мы должны сделать небольшое отступление в прошлое семьи Якушевых и, заранее извинившись перед читателем, начать его с одного события, состоявшегося на Аксайской улице еще задолго до появления в Новочеркасске Павла Сергеевича.
Был пасмурный день. Над окраиной висело низкое, дождем набухшее небо.
Трое - две женщины и мужчина - долго рассматривали коричневый, обшитый досками дом на углу Барочной и Аксайской. Низкие мартовские облака проносились над износившимися, порыжевшими от старой краски листами кровельного железа крыши и задымленной трубой. Худая, совсем еще молодая женщина в траурно-черном строгом костюме, со следами тоски и горя на слегка припудренном лице тихо и бесстрастно поясняла:
- Как видите, дом и двор находятся в довольно приличном состоянии, и та сумма, которую я за это прошу...
Мужчина средних лет с нездоровым цветом несколько одутловатого лица снял с большой облысевшей головы, покрывшейся мелкими капельками пота, фуражку с кокардой землемера и, пожевав губами, упрямо произнес:
- Но позвольте, уважаемая Нина Александровна, с вами не во всем согласиться. Я полагаю, что состояние земельного участка далеко не идеальное и вы могли бы...
Женщина посмотрела на него синими укоряющими глазами и горько вздохнула.
- Многоуважаемый Александр Сергеевич, вы же знаете, при каких драматических обстоятельствах продаю я свой дом. Здесь я выросла, обрела свое счастье, а потом... отец и мой муж, капитан Семенченков, не возвратились с кровавых полей русско-японской войны. А мама... вы же знаете, что произошло с моей несчастной мамой. После этого я охвачена единственным желанием как можно скорее покинуть Новочеркасск, которое, вероятно, испытывали бы и вы, если бы, не дай бог, очутились в моем положении. И сумма, которую я назначила за распродажу, так мала! - Она достала пахнущий духами платочек и вытерла слезы. Другая женщина, с темными глазами и челкой на смуглом лбу, подошла к землемеру и решительно дернула его за локоть:
- Саша, как тебе не стыдно так долго торговаться, неужели ты не видишь, как Нине Александровне трудно!
- Да я что,- сбивчиво заговорил землемер,- я ничего... я, собственно говоря, ничего.- И, сняв пенсне, стал протирать стекла.
- Мы согласны, Нина Александровна.
У женщины потеплели глаза, и она ответила благодарным кивком:
- Вот и спасибо, милые.- Помедлила и, словно не сразу на то решившись, прибавила: - И еще одна просьба. Если можете, не томите, пожалуйста. Давайте поскорее все оформим, чтобы я могла уехать в Харьков. Тяжко переступать порог дома, где убили маму. - Она не заплакала, лишь прикусила красивые, чуть изогнутые губы.
- О чем речь, Нина Александровна! - вскричал вдруг заулыбавшийся Александр Сергеевич.- Давайте завтра же утром пойдем к нотариусу.
Дня через три после этого Надежда Яковлевна держала в руках копию акта нотариальной конторы, в котором черным по белому было написано:
"Мы, нижеподписавшиеся, студентка Нина Александровна Семенченкова, действуя лично за себя и по доверенности сестры своей, Зои Александровны, и занимающаяся домашним хозяйством Н. Я. Якушева, заключили настоящий акт в следующем:
1. Из нас я, Нина Александровна Семенченкова, продала Н. Я. Якушевой за одну тысячу рублей, полученные от нея полностью, принадлежащие мне и сестре моей строения: двухэтажный, смешанной постройки дом, деревянную летнюю кухню и деревянный сарай со всеми в них устройствами и приспособлениями, находящиеся в городе Новочеркасске в квартале втором на углу Аксайской и Барочной улиц с дворовой площадью 286,011 квадратных сажени.
Все расходы по совершению данного акта покупница оплачивает за свой счет. Первую выпись, оплаченную гербовым сбором в размере 32 рублей, надлежит сделать покупнице Н. Я. Якушевой, каковая под страхом недействительности должна быть представлена в отдел местного хозяйства Черкасского РИКа для регистрации".
На документ были наклеены две марки достоинством в два рубля каждая (на них был изображен веселый, бородатый и довольно упитанный для тех лет сеятель в шляпе с широкими полями, такой не характерной для крестьянина тогдашних времен). Надежда Яковлевна помяла в пальцах плотный гербовый лист, и на ее щеках заиграли веселые ямочки.
- Ой, Саша! - засмеялась она.- Представляешь, я теперь домовладелица! Теперь, в советское время, когда повсюду борются с частной собственностью!
Александр Сергеевич, не разделяя ее радости, мрачно заметил:
- Подожди расцветать в улыбках, Надюша. Нас и в лишенцы еще могут за это самое определить.
- Ну вот еще, пошел теперь со своими страхами,- прервала она.- И всегда ты сам пустяка пугаешься, и других пугаешь. А я, между прочим, забыла тебе еще про одно обстоятельство напомнить. У нас не только собственный дом с подворьем завелся, но и батраков теперь двое.
- Каких еще батраков? - спросил после долгой паузы не всегда находчивый Александр Сергеевич.
- Наняла.
- Шутишь,- пробормотал он, вытирая с побагровевшей лысины капельки пота.- И на какое время?
- На всю жизнь.
- И за какую цену?
- Да бесплатно, чудак.
- Каких же таких батраков можно было нанять в нашо время, да еще бесплатно и пожизненно?
- Да Веньку и Гришу. Что? Напугала?
- Наденька! - воскликнул муж и, растопырив руки, пошел на нее. Однако супруга ускользнула и побежала вокруг стола, весело воскликнув:
- А ты догони! Просто так не подойдешь.
Александр Сергеевич сделал несколько быстрых движений, но сразу же закашлялся и тяжело опустился на стул. Приступ астмы навалился на него со страшной силой. Широкая грудь его застонала, как кузнечный мех, губы посинели.
- Боже мой, как же я тебя замучил, милая! Видно, вдовствовать тебе скоро...
Надежда Яковлевна приблизилась к нему, со щек исчезли беззаботные ямочки, глаза потемнели.
- Перестань,- строго оборвала она.- Чтобы я никогда больше таких слов от тебя не слышала! Ты у меня самый умный, самый любимый.- Она наклонилась и обняла его левой рукой за шею. Александр Сергеевич долго целовал эту теплую руку, и, странное дело, приступ внезапно прекратился.
- Вот видишь, Саша, никогда не надо раскисать,- нравоучительно заметила жена.- Тебе не так еще много лет. А ты часто без всякого повода терзаешься мрачными мыслями. Ты еще меня переживешь, вот увидишь.
- Ну, хватит,- прервал ее Александр Сергеевич.- Посмотри лучше на себя в зеркало.
- А что? - Надежда Яковлевна приблизилась к комоду, на котором стояло зеркало. Вглядевшись в свое отражение, весело воскликнула: - Л что? Действительно кровь с молоком. Не ожидала. Впрочем, ладно. Давай лучше обойдем подворье нашего домовладения и убедимся, достаточно ли исправно работают наши батраки Гриша и Веня.
"Батраки" сидели возле чугунного чана, наполненного дождевой водой, и сооружали крепость из песка. Уже были возведены угловые башни и близились к завершению крепостные валы. Григорий командовал, Венька повиновался.
- Я на каждую башню солдатиков оловянных понаставлю, чтобы они дозорными были,- говорил старший брат.
- Дай мне одного,- ныл Венька.- Ну дай! Я его тоже хочу в песок воткнуть.
- Ладно, бери,- милостиво согласился Григорий, и облезлый оловянный солдатик оказался в кулачке у меньшого.
- Смотри-ка, Надюша,- сказал неожиданно Александр Сергеевич, флегматично смотревший из-за ее плеча на своих сыновей,- а ведь у Гришеньки большое пристрастие к баталиям обнаруживается. Ей-ей, военным станет.
- Как атаман Платов,- не поднимая головы, пропыхтел Гришутка.
- Лишь бы не как Козьма Крючков,- заметила Надежда Яковлевна.
- А кто это, мама? - осведомился Гришутка.
- Был такой казак Крючков,- мягко ответила она.-На германском фронте про него даже стишки сочинили.
Александр Сергеевич, перебив жену, весело продекламировал:
Храбрый наш казак Крючков Бьет без промаха врагов. Много ль, мало ль, не считает, Всех на пику их сажает.
- Он их, как комариков и тараканов? - захохотал Венька.
- Вот именно,- подтвердила мать.- В "Ниве" даже картинка была напечатана. Сидит на боевом коне казак Козьма Крючков, из-под фуражки лихой чуб выбивается, в руках у него пика длинная-предлинная, а на пике, как жучки и паучки, германцы сидят проколотые. Видимо-невидимо. Кровь так и хлещет из них, а Козьма Крючков только улыбается в свои усы при этом.
- И это по правде, не понарошке? - поднял удивленные глаза Венька сначала на отца, потом на мать.
- Разумеется, понарошке,- улыбнулась Надежда Яковлевна,- если бы это было правдой...- И осеклась. Александр Сергеевич торопливо отвел глаза. Они оба все поняли. Ей снова представилось рыжее поле перезрелой осыпающейся пшеницы, которую в том году убирать было некому, и взрывы при огневом налете, а среди них шагающий в атаку Ваня Загорулько и то, как, пораженный невидимой пулей, схватывается он за грудь, и под его растопыренными пальцами, меняя границы свои, быстро растекается бурое неровное пятно. Он стоит несколько мгновений в этой позе, а потом безмолвно падает, удивленно запрокинув голову в эти нескошенные колосья. Что же касается Александра Сергеевича, то он прекрасно понял, какие слова остались недосказанными.
- Не надо, Наденька,- тихо проговорил Александр Сергеевич и грустно подумал о том, что никогда в жизни не забудет она своего первого мужа, и будет тот вечно стоять между ними. Он думал об этом спокойно и горько, совсем не так, как вспыльчивая Надежда Яковлевна, которая в эти мгновения с трудом удерживалась от горьких упреков в его адрес. "Да сколько же это можно терпеть! - восклицала она мысленно.- Чем же я виновата, если так все случилось и храброму Ване Загорулько отдала я свою юность!.."
Муж и жена молчали. Им не требовались слова, чтобы понимать друг друга. Такие слова могли бы привести к ссоре или даже к слезам, и потому они остались невысказанными. После долгой паузы и тяжелого хрипловатого вздоха Александр Сергеевич как ни в чем не бывало сказал, обращаясь к Веньке:
- Теперь ты понял, кто такой был защитник бога, цари и престола Козьма Крючков?
- Болтун,- продолжая копаться в песке, добродушно ответил сын.
Родители рассмеялись, и обоим стало легко, словно и не было эгой томительной, напряженной паузы.
- Пойдем, Наденька,- потянул ее за руку Александр Сергеевич.
- Куда, Саша?
- Поместье наше осматривать.
- Да уж поместье,- отозвалась жена, и в ее голосе прозвучала радость. Шутка ли сказать, первый раз в своей жизни дочь каменщика Изучеева и бывшего атамана станицы имеет не двор, а целое поместье. Да еще когда -в советское время.
- И целых двести восемьдесят шесть квадратных саженей,- улыбнулся муж. - Того и гляди, опомнятся финагенты и произведут экспроприацию, а за содержание двух этих вот "батраков", как ты их назвала,- кивнул он на детей,- не только оштрафуют, по и привлекут к уголовной ответственности.
Двор являл собою картину запустения. Краска на стенах сарая и деревянного флигелька облупилась, листы железа на крыше дома проржавели, а некоторые из них при сильных порывах ветра, дувшего со стороны Аксая, поскрипывали и стучали. В беседке была выломана задняя стенка. Голые ветки сирени и несколько фруктовых деревьев с еще не наметившимися на них почками сиротливо покачивались. На месте снесенного каменного домика была навалена куча земли с беспорядочно разбросанными у ее подножия осколками стекла, невесть откуда взявшимися переломанными и скрюченными обручами и плитами изразцового печного кафеля. Лишь па дорожках, которыми была рассечена просторная территория подворья, и на широкой клумбе, разбитой у самого порога беседки, торчали из вязкой земли остроугольные кирпичи. И эта геометрическая правильность аллеек наводила на мысль о том, что раньше двор был цветущим и красивым.
- А мне здесь все нравится,- простодушно заявила Надежда Яковлевна,- прольем по нескольку ведер собственного пота, и милый дворик опять расцветет. Ведь это же рай после подвала, который мы снимали на Сенном базаре.
- Еще бы! - хмыкнул Александр Сергеевич.- У меня до сих пор стоят в ушах голоса хозяйки и ее сожителя.
Вышагивая по мокрым дорожкам двора, Надежда Яковлевна оживленно рассуждала о том, как она преобразует собственную площадь, какие цветы посадит на клумбах и что на грядках, каким деревьям сделает прививки, а какие срубит за ненадобностью, потому что на это они уже обречены.
- Чего же хорошего! - восклицала она.- Машут голыми высохшими ветками у твоего порога, совсем как скелеты в повести Гоголя "Страшная месть", которую ты готов читать детям по три раза за вечер, будто это какая-то колыбельная. Не перебивай и не оправдывайся, юморист! Вот здесь я посажу картофель и помидоры, в том далеком углу двора - кукурузу и подсолнухи. Можно попробовать и арбузы. Уф, кажется, все.
- Нет, не все,- заметил Александр Сергеевич и, сняв пенсне, посмотрел на нее подслеповатыми глазами.- Ты забыла про конюшню для рысаков и фаэтона, а на другом конце двора запроектировать навес для трактора и молотилки, ну, и еще небольшую винокурню воссоздать, чтобы советские червонцы и в особенности серебряные рубли с пролетарием, который исправно бьет молотом по наковальне, потекли к нам ручьем.
Надежда Яковлевна остановилась и всплеснула руками:
- Да перестань ты острить... ведь я же серьезно!
Солнце пробилось сквозь угловатые края облаков, и недавно приобретенный двор сразу повеселел, освободившись от прежних мрачных тонов.
- Крышу надо латать, дымоход чистить,- загибая пальцы, подсчитывала Надежда Яковлевна.- Нанимать кого-нибудь придется.
- Я сам попробую,- заикнулся хозяин дома, но супруга окинула его веселым взглядом:
- Ты? А я буду за тобой с дымящимся на блюдце астматолом бегать, оберегая от очередного приступа? Нечего сказать, удовольствие ниже среднего.
- Ты на меня совсем как на безнадежного помощника в своей жизни смотришь,- потупился было муж, однако Надежда Яковлевна встала рядом и ласково погладила его виски.
- Ну ладно, мой милый тенор,- примирительно сказала она, однако этим не развеяла его грусти.
- Несостоявшийся тенор,- поправил Александр Сергеевич, но жена, не соглашаясь, покачала головой:
- Зачем так, Саша? Разве ты виноват, что у тебя астма? Пойдем лучше низы осмотрим.
Они открыли скрипучую дверь отдельного входа и стали спускаться по щербатым ступенькам. Александр Сергеевич, вооружившись свечой и спичками, шел впереди.
Это помещение нельзя было назвать первым этажом. На Аксайской улице под очень многими домами были при их заложении предусмотрены небольшие комнатки с низкими потолками и подслеповатыми окнами вровень с проезжей частью улицы, сквозь которые можно было увидеть лишь ноги прохожих или колеса громыхающей брички. Такие окна неохотно впускали даже полуденный свет.
Под ногами Якушевых угрюмо заскрипели половицы. Запахло сыростью и затхлостью необитаемого помещения. Низкие потолки, оплетенные паутиной старательных "крестовиков", мрачно нависли над головой. Стены с осыпавшейся штукатуркой и дальние углы, которых никогда почти не достигал дневной хвет, усиливали и без того тягостные ощущения любого вошедшего сюда. Обитатели Аксайской улицы такие комнаты именовали "низами". Обычно, если семья, заселившая дом, была малочисленной, такие "низы" оставались либо вовсе необитаемыми, либо приспосабливались под хранилище ненужной домашней утвари, арбузов, картофеля, моркови. В бочках, стянутых железными обручами, хранились квашеная капуста, соленые помидоры и маринованные баклажаны, а то и прославленный донской арбузный мед нардек, если хозяева были состоятельными.
Иногда приезжие станичники, мечтавшие о переселении В.Новочеркасск, по утрам будили жильцов такого дома громкими голосами:
- Хозяин, "низы" не сдаются?
И если ответа долго не следовало, нетерпеливый съемщик повторял свой клич несколько раз.
Была в "низах" дома, теперь принадлежавшего Якушевым, одна угловая комната, которая совсем не имела окна. Эта комната хранила жуткую тайну. С зажженной свечой Надежда Яковлевна подошла к ее порогу и, зябко передернув плечами, в нерешительности остановилась. Свеча вздрогнула в ее руке. Порог этой комнаты было боязно переступать, но любопытство влекло вперед, и его невозможно было преодолеть. Угадывая состояние жены, Александр Сергеевич вошел следом и остановился рядом, ощущая прижавшееся к нему теплое плечо. Пламя свечи дрожало, расплескивая но стене тени. Если бы не тяжелое, с присвистом, дыхание мужа, Надежде Яковлевне было бы не по себе. Горько покачав головой, она сделала еще один шаг вперед и проговорила:
- По описаниям Нины Александровны, тут была кладовка... Бочки, рабочий столик, табуретки. Саша, ее мать... здесь, в этой комнате?..
Он молча кивнул.
- И никаких драгоценностей не нашли?
- Нина Александровна говорила, будто исчезло всего лишь около ста рублей.
- Вене только не рассказывай. В отличие от Гришутки, он такой впечатлительный и даже нервный!.. Ну да ладно. Пойдем,- закончила она, бегло осматривая стены и потолки уже в других комнатах.- Ох, сколько денег понадобится на ремонт!..
Солнце, разорвав окончательно облака, засияло над окраиной, и сразу стало от этого веселее на душе. Ребят во дворе уже не было. Они успели построить крепость из песка и тут же ее разрушить, а потом ушли в свою комнату. Совсем недавно семья Якушевых ютилась вблизи от Сенного базара, второго по значению в Новочеркасске, в полуподвале. Теперь же у сыновей была детская, превосходившая по площади прежнюю их квартиру. Жили они тогда у толстой, неопрятной и вечно подвыпившей полицейской вдовы - торговки-перекупщицы. Когда та порою за целую неделю до условленного времени являлась за квартирной платой, от ее пестрого замусоленного фартука пахло рыбой, а с толстого пунцово-растерянного похмельного лица не сходило выражение виноватости Александр Сергеевич брезгливо отсчитывал деньги и отдавал их так, чтобы не прикасаться к ее потным рукам. Там же, в подвальной комнате, произошел случай, о котором как можно реже старалась теперь вспоминать Надежда Яковлевна. Она готовила обед на кухне, где кроме ее собственного стояло еще три примуса, когда услышала крики и плач.
- Это твои будто бушуют,- равнодушно обмолвилась хозяйка.- Поглядела бы, что там.
Оказалось, что Гришатка принес из школы кем-то ему отданный для прочтения роман Майн Рида "Всадник без головы", а Венька, упрямо потянувшийся к нарядной иллюстрации, надорвал страницу. Гришатка дал ему легкого стусапа, и младший брат, слетев со стула, оказался распростертым на полу. Когда мать вбежала, он хныкал, размазывая кулаками слезы.
- Да как ты посмел! - гневно крикнула мать.- Такой огромный лошак - и на маленького. Вот тебе!
Она не очень сильно ударила Гришатку по щеке, но тот вдруг повалился на пол и отчаянно завыл. В этом тоскливом его вое, как показалось молодой женщине, отразилось большое сиротское горе. Захлопнув дверь, она убежала на кухню, уже понимая, какую огромную обиду нанесла мальчику. О том, что произошло дальше, она никогда не узнала. В карих, внезапно расширившихся глазах младшего сына блеснули слезы. Размазывая их по лицу, Венька подполз к брату.
- Гришка, тебе больно?
- А то,- с натугой простонал Гришатка и снова завыл.- Это все из-за тебя... Твоя мать злая.
- Гришка, я не виноват,- печально проговорил Венька.- Хочешь, я тебе красные айданчики отдам и канонерскую лодку в придачу, а? Только ты не плачь. Она больше не будет. Я ей так скажу...
Когда Надежда Яковлевна с кастрюлей вскипевшего молока возвратилась в комнату, братья, обнявшись, сидели рядом, и старший читал младшему "Всадника без головы". Она все поняла и вечером рассказала мужу. Александр Сергеевич шумно вздохнул, и его нижняя губа отвисла, как это с ним бывало в минуты глубокого раздумья, когда он чем-то бывал расстроен.
- Да-а, - после долгой паузы вымолвил он, - хоть ты и знаменитые Бестужевские курсы окончила, милая Наденька, по педагогом еще не стала.
Жена энергично встряхнула короткой прической.
- Ты не совсем прав, Сашенька,- упрямо возразила она.- Тут дело вовсе не в педагогике. Понимаешь, есть в нашем языке поганое слово "мачеха", и есть "мачехины" чувства. Они, как звериный инстинкт, пробуждаются в человеке, и подавить их порою невозможно. Вот и я сегодня сорвалась,- закопчила она грустно, но Александр Сергеевич уже подобрел и веселым голосом произнес любимую свою поговорку:
- Все в этой жизни поправимо. Непоправима одна лишь смерть.- И вдруг чистым, сильным голосом, от которого у Веньки всегда звенело в ушах, запел:
Гей, да вы хлопцы, гей, запорожцы, Щеб наша доля нас не цуралась...
Как только проходили жестокие приступы, Александр Сергеевич становился совсем иным человеком: он и арии из опер пытался петь, и с ребятами возился на широкой кровати, норовя подмять их под себя, отчего они визжали, как резаные поросята. Он не мог догадаться, что жена, наблюдавшая все это с застывшей грустной улыбкой, думала в такие минуты про себя: "Ему легче. Они ему оба родные: и Венька, и Гришатка. А мне Гришатка совсем чужой. Пасынок. И родила его Настя, которую я никогда не смогла бы назвать лучшей своей подругой". И, произнеся мысленно эти свои горькие слова, она опять представляла желтое от нескошенной пшеницы поле и своего Ваню, схватившегося за грудь и упавшего па землю. "Если бы пропела пуля, он бы остался жив. Но пуля не пропела, и Ванина жизнь оборвалась". И будто стоп его слышала она предсмертный, обрывистый. И думалось, что это он имя ее хотел выкрикнуть последний раз в своей угасающей жизни. Успел лишь начать: "На...", а дальше захлебнулся и рухнул. Ну почему не осталось от него сына! Был бы сын, и к Гришеньке она бы относилась по-другому, и легче было бы побороть эту подлую "мачехину" неприязнь, и не приходило бы на ум слово "пасынок".
- А ну-ка, хлопцы! - гаркнул в эту минуту Александр Сергеевич.- Тащите сюда вашего "Всадника без головы". На какой вы там странице остановились, бисовы дети?
- Мы сейчас! - вскричал восторженно Гриша и опрометью бросился к маленькой бамбуковой этажерке.
...Так они жили на Сенном базаре раньше в затхлой полуподвальной комнатушке. Но теперь все изменилось. Войдя в дом, Надежда Яковлевна радостно вздохнула. Сквозь восемь высоких окон вливался уже окрепший утренний свет. Из зала был виден разлив. Ровная гладь водного зеркала лежала на десятки километров окрест, спрятав от глаз людских луга. Хорошо назвали казаки донскую просторную эту ширь: займище. Действительно, лучше не придумаешь названия. В конце весны, летом и в начале осени зеленеют на ней травы, на бахчах арбузы и дыни набирают силу и сок, стада коров и коз пасутся с утра до ночи.
Но суровой зимой луга заметет жестким снегом резвая метель, похоронит до самого ледохода. В ледоход вскроется Аксай, неприметная в летние времена с виду река хлестанет через левый свой берег и пойдет гулять на всю мощь, словно развеселившийся парубок на доброй свадьбе. Ветер будет гнать тяжелые, свинцово-темные водяные валы, совсем как пастух гонит огромное стадо. И надолго исчезнет под холодной водой ровное пространство луга. Лишь кустики чакана, зябнувшие на ветру, будут торчать из ледяной воды, сиротливо покачиваясь. А весною, когда яркое солнце начнет светить над разливом, то тут, то там обнажая на мелководье островки размытой земли, на успокоившемся от будоражащих ветров Аксае появятся десятки лодок - и рыбацких, и просто прогулочных. И даже какая-нибудь яхта гордо проплывет мимо них под парусами.
Если весна дружная, то уже в конце апреля снова освободятся от воды луга и вскоре же покроются веселой зеленой краской, словно какой-то невидимка-маляр выкрасил их всего за одну ночь в этот цвет. Нет, все-таки очень метко назвали донские казаки такие луга займищем. Вода приходит сюда лишь затем, чтобы отобрать у людей луга на время разлива,, а потом уходит, оставляя на целый год огородникам, бахчевникам, рыболовам, да и охотникам.
Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна как зачарованные смотрели в распахнутую даль займища.
- Гляди, Саша, как это великолепно,- сказала она.
- "Великолепно",- поморщился муж.- Милая Наденька, ну когда я отучу тебя от этих избитых слов.
- Что поделаешь, я не лирический тенор, претендовавший в свое время на сцену Мариинского театра, а всего-навсего дочь каменщика, да и безбожница к тому же убежденная,- уколола она.- А ты все-таки сын купца. Хоть и захудалого, но купца, выразителя идей класса угнетателей и поработителей.
Александр Сергеевич весело рассмеялся:
- Да уж и поработитель был мой папаша! В последние годы свои только что с протянутой рукой не ходил по Новочеркасску. Если на то пошло, твой батюшка Яков Федорович имел более веские основания в лишенцы попасть, если бы был сейчас жив. Все-таки собор строил... место отправления культа. А сейчас их повсюду взрывают и поют при этом: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем"... Ты бы тоже, наверное, под собор динамит подложила бы, раз нашего Веньку крестить отказалась.
Надежда Яковлевна задумалась и грустно покачала головой:
- Но позволь, Саша, не путай божий дар с яичницей. Я бы попов всех постригла и отправила в Александро-Грушевск уголек добывать. А собор ни в коем случае не взрывала бы, потому что не мыслю без него нашего милого Новочеркасска. Ведь это же какой архитектурный памятник!
- А я не мыслю себе собора без колокольного звона, - вызывающе возразил Александр Сергеевич.- А большевики, ходят слухи, скоро и колокольный звон запретят как религиозную агитацию.
Надежда Яковлевна усмехнулась, глаза ее потемнели:
- Никак не могу тебя понять, Саша. Брат твой Павел всю гражданскую за красных отвоевал. И с Деникиным, и с Врангелем дрался, раны и боевые ордена заслужил, а ты ежечасно готов на большевиков роптать.
Александр Сергеевич закашлялся и развел руками, будто заранее прощал в завязавшемся споре свою жену.
- Милая Надюша, брат мой - личность огромного мужества и человеческой честности. Но, понимаешь, в чем дело... Есть творец идеи, ее автор или создатель, а есть раб идеи, берущий все на веру. Мой брат Павлик всегда верил в воздушные замки, в незамедлительность мировой революции, а теперь бесповоротно верит в то, что мы вот-вот догоним и перегоним капиталистические страны. Как же мы их перегоним, если только-только оправились от разрухи и голода и перестали делить одну краюху хлеба на десять персон? Не столь уж просто эту задачу выполнить. Пока мы приблизимся к этой цели, капиталистический мир двинется дальше. И попробуй его догнать. Из последних сил догонишь, за бобровый воротник схватишь, а он тебе скажет: "Ну что? Догнал? А теперь посмотри на себя. Пока ты меня догонял, ты все с себя сбросил и в одних портках остался. А я как был в роскошной дохе, так в ней и продолжаю шествовать, и в руках моих по-прежнему палка с серебряным набалдашником, а из уст шустовским коньяком попахивает". Вот тебе и оно, Надюшенька. Лучше скажи, что у тебя на обед будет, искусница моя дорогая.
- Да ничего особенного,- думая о чем-то своем, рассеянно ответила жена.- Куриный суп с фрикадельками, жаркое из телятины, сула под маринадом. Я не уверена, что тобою описанный буржуй всегда так питается.
- О! - восторженно воскликнул Александр Сергеевич.- Вот так ничего особенного. Ведь это же царский обед!..
Потом она открыла верхний ящик комода, где теперь хранились у них деньги, золотые вещи и документы, достала оттуда свидетельство о покупке дома и в который уже раз пробежала глазами почти наизусть заученный текст. Довольная улыбка тронула ее губы, и, как всегда, на щеках появились ямочки.
- Смотри, Саша, а ведь я теперь домовладелица.
- А вот подожди, подожди,- стал ее стращать Александр Сергеевич,- вот занесут меня за это рано или поздно в списки лишенцев, из техникума выпрут, буду тогда на биржу труда ежедневно ходить в поисках заработка.
- Да какой же ты лишенец,- расхохоталась она.- Ты вовсе не лишенец, Саша, а подлинный труженик.- И, назидательно подняв указательный палец, отчеканила: - Лишенцем считается тот, кто живет на нетрудовые доходы, получаемые от эксплуатации человеческого труда, кто принадлежит к враждебным нашему строю антагонистическим классам. А у нас в обществе класса лишь два: рабочих и крестьян.
- А интеллигенция?
- Стыдись, Саша! Тебе в пору за учебник политграмоты садиться. Такого класса нет. Интеллигенция - это всего лишь прослойка.
- Значит, мы с тобой прослойка? - задумчиво повторил он.
- Значит, прослойка,- согласилась жена.- И если антагонистических классов нет, мы можем примыкать к любому из братских классов, и никогда не окажемся при этом лишенцами.
- Спасибо за урок политграмоты, Надюша,- буркнул Александр Сергеевич.
- Одним "спасибо" не отделаешься,- засмеялась она.
Над займищем и Аксайской улицей разгорался день. Воздух мягко струился над землей. Быстро испарялась в лужах и колдобинах дождевая вода. Шмыгая носом, в зал ворвался Венька, радостно сообщил:
- Мам... меня здешние мальчишки погулять на бугор зовут. Пусти?
- У отца спрашивай.
Александр Сергеевич, близоруко щурясь, посмотрел на сына:
- Какие еще мальчишки? Не успели поселиться, уже друзей-шалопаев, себе подобных, завел. Вот вздуют тебя, тем и кончится.
Венька норовисто покачал встрепанной головой:
- Не... не вздуют, пап, они добрые.
- Ну валяй, если добрые. Однако гуляй так, чтобы мы тебя видели. Да за бугор не спускайся, смотри. А Гриша с тобой не хочет?
- Нет, папа, я читать буду,- ответил из коридора старший брат.
Венька вприпрыжку выбежал из дома. Осмелевшее солнце уже порядком высушило землю, и она стала твердой и теплой. Едва только за Венькой захлопнулась дверь, из-за угла выскочила целая ватага ребятишек. Двое из них, конопатые и стриженные под машинку, были поразительно похожи друг на друга. У третьего, более взрослого, под глазом темнел довольно приличного размера синяк, четвертый, самый старший, презрительно сплевывая новому обитателю Аксайской семечную шелуху на ноги, небрежно сказал:
- Идем на бугор, мы с тобой поговорить хотим.
Он был рыжий, жесткие волосы с непокорными хохолками отливали медью, на щеках, на носу и лбу лепилось великое множество веснушек. Стайка ребят окружила его, как конвой окружает военнопленного. Рыжий был на целую голову выше их всех и, как показалось Веньке, старше его года на три. К таким мальчишкам Венька всегда испытывал чувство уважения и страха. Придя на бугор, ребята сели на землю, продолжая удерживать нового обитателя окраины в своем кольце, и рыжий, указывая на парадное, из которого только что вышел по их зову Венька, повелительно спросил:
- Ты в том доме, что ли, живешь, где генеральшу убили?
- Какую еще генеральшу? - удивился Венька, всегда боявшийся покойников.- Я ничего не знаю.
- Какую, какую,- передразнил рыжий.- Белогвардейскую, выходит. У нас, у советских, генералов нет. Красная Армия только да Буденный Семен Михайлович. А ты и не знаешь? Не прикидывайся.
- Не знаю,- моргая глазами, ответил Венька.- А как ее убили?
- У вас "низы" есть?
- Ну, есть,- кивнул Венька.
- Так вот,- заговорил рыжий,- прислуга заманила ее туда. Думала, она там драгоценности прячет. И потом убила, чтобы теми драгоценностями завладеть.
- И в какой комнате ее убили? - запинаясь, спросил Венька.
- В самой дальней, где даже окошек нет. Ты там был хоть разочек?
- Бы-ыл,- протянул Венька,- там страшно.
- Еще бы! - пренебрежительно согласился рыжий.- Интеллигенция всего боится.
- А мы не интеллигенция,- возмутился Венька,- мой папа землемер.
- А он фуражку с кокардой носил?
- Носил.
- Значит, еще хуже... царский чиновник он.
- А вот и врешь! - закричал Венька, поддаваясь приступу внезапной злости.- А дядя Павел... дядя Павел у меня красный командир! Он в Крыму тыщу белых шашкой порубил.
- Тю! - оборвал его рыжий.- Да где ж это видано, чтобы один да тыщу порубил. Да еще шашкой,- и, подозрительно сузив глаза, закончил: - Что-то я не видел твоего дядю Павла.
- Еще увидишь, подожди! - взорвался Венька.
- Приедет ли... может, ты его просто выдумал.
В эту минуту по крутой дорожке, ведущей к бугру со стороны Аксая и железнодорожной насыпи, к ним подошел еще один паренек. Он был на вид старше и ростом выше рыжего. Паренек лузгал семечки, шелуха налипла на его нижнюю губу. Зоркими светло-зелеными глазами он еще издали наблюдал за ватагой мальчишек, сразу выделив среди них новенького. Приблизившись, лениво хлопнул ладонью Веньку но стриженому затылку. Ладонь у него была тяжелая, и у Веньки зазвенело в голове.
- Ах, это ты! - фыркнул он.- Вы, что ли, напротив нас у белогвардейцев дом купили? Ну-ну... Это я тебе входного леща по законам Аксайской улицы дал. Как зовут-то тебя, маменькин сынок? А что, Венька, ты Олега собьешь? - ткнул он пальцем в лобастого паренька с синяком под глазом.
- А что это такое - собьешь? - озадачился Венька.
Ребята рассмеялись, а подошедший презрительно повторил:
- Эх ты, законов Аксайской улицы не знаешь! По-нашенски "собьешь" - значит победишь в драке.
- А я не хочу драться,- упавшим голосом ответил Венька, которому после мирной игры со старшим братом в солдатики никак не хотелось подставлять свои щеки под чужие кулаки. Здоровенный парень осуждающе покачал головой:
- Мало ли что не хочешь! Мы в последний раз спрашиваем тебя, собьешь Олега или нет?
- Не знаю,- потупился Венька.
- А ты, Олег?
- Собью, - уверенно ответил мальчишка с татарским разрезом глаз.
- Ну, давай.
Венька не успел и глазом моргнуть, как два сильных удара обрушились на него. Всхлипнув не от боли, а от обиды, он бросился наутек.
Отец, наблюдавший из окна за тем, что происходит на бугре, с усмешкой воскликнул:
- Надюша, Гришатка, глядите, кажется, нашего Веньку лупят.
- Саша, почему же ты это так равнодушно созерцаешь! - вскричала пылкая Надежда Яковлевна.- Иди вмешайся, разгони обидчиков.
- Пускай,- усмехнулся Александр Сергеевич и махнул рукой.- Ничего страшного я в этом пока не усматриваю. Надо, чтобы он сам за себя учился стоять. Видишь, как улепетывает. Иди открывай, иначе кулачонки о дверь обобьет.
Действительно, Венька уже молотил в парадное кулаками. Вбежав в зал, он тотчас же бросился к стеклянной банке с кипяченой водой. Пил жадно, захлебываясь. Вода текла за ворот, кадык на худой шее вздрагивал.
- Ну как? - усмешливо поинтересовался отец.- Погулял?
- Погулял,- обернувшись, ответил Венька. Светлые вихры на его голове торчали во все стороны, на щеке пламенел след от чужого кулака.
- Ребята понравились?
- Понравились.
- Теперь пойди во двор поиграй, а еще лучше Гришатку попроси сказку про добрых богатырей почитать.
Окраина трудно принимала Веньку. В больших и маленьких домиках, деревянных и кирпичных, здесь жили в основном люди небольшого и даже совсем малого достатка: железнодорожники, слесари и токари с завода, ранее принадлежавшего немцу Фаслеру, бедные чиновники, огородники, жуликоватые пьяницы без определенных занятий, скорые на выпивку, а ночью на разбой. Сытые нэпманы с двойными подбородками из центральной части города редко сюда заходили. Вот почему чисто одетый Александр Сергеевич Якушев сразу же был принят всеми соседями в штыки, а фуражка землемера с кокардой сделала его и вовсе в глазах обитателей окраины равнозначным царскому чиновнику, а то и белогвардейскому офицеру, по ошибке не задержанному грозным ГПУ города Новочеркасска.
Много лет спустя Вениамин Якушев с благодарностью вспоминал эти первые годы своей сознательной жизни, прожитой на Аксайской. Впоследствии он часто думал о том, что когда в Великую Отечественную войну на него иной раз накатывало чувство отчаянной, ни перед чем не останавливающейся отваги, то было оно порождено именно этими детскими годами, прожитыми на окраине, когда приходилось утверждать собственную личность перед обидчиками.
Чуть ли не со времен основателя Новочеркасска - донского атамана Платова - Аксайская улица, то взбегая на бугры, то ныряя в мелкие буераки, тянется от самого кирпичного завода до вокзального спуска. Еще в давние двадцатые годы она была поделена на три сферы влияния. На южной ее оконечности с утра и до вечера, словно государственный гимн, пели знаменитую песенку, начинавшуюся словами:
На окраине, где-то в городе, Я в рабочей семье родилась И девчонкою лет шестнадцати На кирпичный завод нанялась.
Здесь обитали настоящие рабочие девчата и парни, уже тогда прикипевшие к труду, успевшие нажить мозоли на руках. Та часть улицы, где жил Венька со своими родителями, была заселена мастеровыми и казаками-огородниками, перебравшимися сюда из донских станиц Мелиховской, Багаев-ской, Манычской в поисках заработков и развлечений. Оставалась еще одна, третья часть улицы, тянувшаяся от Атаманского спуска до станции, именовавшаяся "баном". Здесь в двадцатые годы обитали профессиональные головорезы: бандиты-налетчики, воры-карманники, поножовщики и просто хулиганы от чистого сердца, которым ничего не стоило ради удовольствия пырнуть ножом запоздалого прохожего, запустить камнем в окно чужого дома или кинуть через забор отчаянно лаявшему цепному псу кусок мяса с иголкой внутри.
Именно отсюда чаще всего доставляла "скорая помощь" тяжелораненых, а порою убитых и дочиста ограбленных новочеркассцев. Чтобы запугать обывателей, "бановые" часто вывешивали на фасаде красного кирпичного дома на углу Аксайской и Крещенского спуска один и тот же плакат. Под черепом и скрещенными костями была нарисована окровавленная финка и красовалась устрашающая надпись: "Почтенные граждане! Сообчаем, што до темноты улица ваша, а с темноты и до рассвета наша. Так что не появляйтесь!"
Время от времени "бановые" совершали набеги на среднюю и Кирпичную часть Аксайской улицы, ловили парней и нещадно, до потери сознания, избивали, если те отказывались кланяться и в подтверждение своей покорности стоять на коленях и есть землю. Даже милиция ничего не могла с ними поделать, потому что прибывала на место происшествия с опозданием - ей оставалось лишь подбирать истекающих кровью.
Но однажды это кончилось, и кончилось довольно страшным образом. "Бановыми" верховодил некий Ленька Баклан, как впоследствии выяснилось, незаконный сынок одного из атаманов мелкой белогвардейской банды, орудовавшей на Дону, броский парень с курчавым чубом, дерзко выбивавшимся из-под широкого лакированного козырька фуражки-капитанки. На всем протяжении от вокзала до бугра, напротив которого стоял тогда еще не купленный Александром Сергеевичем Якушевым дом, они избивали всех встречавшихся им мужчин, не щадя при этом ни старого, ни малого. Аксайские парни, поняв, что одним не выстоять, бросились к "низовым" - так окраина окрестила тех казаков-переселенцев, которые жили у самого железнодорожного полотна. Первым делом постучались в белый двухэтажный дом, где селилась огромная семья кузнеца Вани Дронова, известного во всей округе силача.
Было воскресенье, и Дронов с пятью своими дружками сидел за столом перед "гусыней" и тарелками со снедью. На плите шкворчала яичница.
- Дрон, спасай! - крикнул один из посланцев.- "Бановые" пришли на Аксайскую, всех перебить грозятся.
- "Бановые"? - переспросил кузнец. - Они и мне насолили, сучьи дети. Братишку поколотили. А ну-ка, хлопцы, водку в сторону. Докажем, что и мы за себя постоять могем. Я не из тех станишников, про которых молвят: "Дед у тебя был казак, отец сын казачий, а ты хрен собачий". Бери кто цепь, кто ломик, кто нагайку, а кто просто камень, и все на Аксайскую! Только дробовиков не прихватывай, чтобы милиция потом претензиев к нам не предъявляла. Зараз мы им покажем, что такое честное донское воинство!
За Дроном кинулось человек двадцать "низовых", давно скрипевших зубами при одном упоминании о вожаке "бановых", но кузнец жестом их остановил:
- Всех не надо. Пятнадцать душ подымайтесь зараз вверх по соседней Почтовой улице и встречайте там недобитков, а мы с остальными перехватим их на углу Барочной и Аксайской.
Это была схватка, которой никогда не видывала вольная Аксайская улица. "Низовые" казаки с остатками еще не вконец побитых парней с окраины ринулись на врагов. Ленька Баклан попытался было с финкой броситься на Дрона, но кузнец на лету поймал его руку. Она хрустнула, и бандит отчаянно завопил. Финка выпала, а Дрон ударил Баклана в висок так, что тот бездыханным упал на пыльную проезжую часть Аксайской улицы и уже не поднялся больше. "Бановые" бросились бежать, но на Почтовой улице их перехватила другая группа казаков. Финки и кастеты не пригодились на этот раз уркаганам. Избитые, они никуда не ушли с Аксайской улицы до прибытия грузовика с милиционерами. Начальник угрозыска перевернул лицом вверх бездыханное тело Леньки Баклана, коротко сказал:
- Тот самый. Его-то мы и искали.- Подумал и прибавил: - Ну и силушка же у тебя, товарищ Дронов. Как вот перед законом будем теперь оправдываться? Ну да ладно, что-нибудь придумаем.
С той поры тише стало на Аксайской улице, но время от времени по ночам все же будил обывателей отчаянный крик запоздалого прохожего: "Караул, грабят!", в ответ на который иные жители испуганно крестились и сдавленным шепотом приказывали своим сородичам: "Слышь, Вань (или Мишутка)! Там, на улице, грабят кого-то... А ну-ка, проверь поскорее запоры да свет загаси".
Поистине странное сословие казачество. От отчаянной храбрости до богобоязненной трусости шаг у его представителей иной раз бывает короче воробьиного носа.
Но воинственные традиции предков все-таки и обитателям Аксайской улицы достались в наследство, и маленький Венька в этот вечер долго не мог заснуть, думая о первой встрече с соседскими ребятишками. "Как же это он меня побил? - сгорая со стыда, вспоминал Венька.- Он же ниже меня ростом и на год моложе, а побил. И я побоялся его ударить в ответ... Значит, я трус?"
Мать хорошо понимала растревоженную переживаниями душу сына. Желая его успокоить, она в таких случаях пела немножко грустную колыбельную, и ее голос был для мальчика самым лучшим лекарством. Чтобы не расплакаться от обиды, Венька сейчас лежал, сцепив зубы, и даже старался не дышать. Голос матери наплывом врывался в утомленное обидой сознание:
Спи, дитя, не знай печали, Баюшки-баю, Тихо светит месяц ясный В колыбель твою.
И странное дело, обиды и переживания отступали прочь, легко и приятно начинала кружиться голова. Подсаживался отец.
- Давай я тебя сменю, Наденька, если он еще не спит.
- Садись, несостоявшийся тенор императорского театра,- с легкой усмешкой отзывалась мать. Отец тоже пел тихим голосом, но не колыбельную, а совсем другую песню, которую обычно с присвистом пели донцы на маршах:
Солдатушки, бравы ребятушки, А где ваши жены? Наши жены - пушки заряжены, Вот где наши жены. Солдатушки, бравы ребятушки, А где ваши детки? Наши детки - это пули метки, Вот где наши детки.
Так было и сейчас. Александр Сергеевич обнял жену за плечи, тихо позвал:
- Идем в другую комнату, Наденька. В этом доме есть где уединиться и нам, родителям. Ты у меня сегодня такая молодая...
Надежда Яковлевна осторожно освободила плечо из-под его чуть влажной тяжелой руки, словно сказать хотела без обиды, но твердо: "Не надо, не прикасайся ко мне, Саша". А у него в грустных глазах, иногда приобретавших неопределенный цвет - тс ли светло-голубой, то ли светло-серый,- читалось одно и то же: "Вот и снова нашла коса на камень. Я знаю, что ты меня не любишь и не полюбишь никогда в жизни, потому что, даже мертвый, твой Иван всегда будет разделять нас жестокой межой".
Утром Венька очнулся от яркого солнечного луча. Отец и Гришатка открывали со стороны Аксайской окно, выходившее из детской. Острый и широкий, этот луч ударил на мгновение в глаза, заставил его зажмуриться. Освоившись, Венька перевел взгляд на бугор и увидел там вчерашних ребят. Коренастый, крепколобый мальчишка, тот самый, что постыдно побил его в кулачном поединке, о чем-то рассказывал своим дружкам, кивая в сторону их дома. "Побил меня и хвастает!" - взорвался про себя Венька. Он чувствовал сейчас необыкновенный прилив сил, п вчерашние насмешники вовсе не казались ему страшными. Надев майку, короткие штанишки с бретельками и сунув ноги в сандалии на лосевой подошве, он решительно метнулся в коридор.
- Вень, ты куда? - озадачилась Надежда Яковлевна.- А завтракать?
- Мам, я сейчас,- крикнул сын и галопом помчался к бугру.
- Саша, останови его,- встревожилась мать,- опять поколотят!..
- Погоди, Надюша,- хлопнул Александр Сергеевич в ладоши и весело продекламировал: - "Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла". Кажется, наш Венька помчался сводить счеты. Посмотрим, что сейчас из этого получится.
- Побьют Венечку,- жалобно повторила Надежда Яковлевна, и оба они застыли у окна.
Тем временем Венька подбежал к бугру, удивив своей скоростью ребят, и остановился, чтобы перевести дыхание. Мальчишки с удивлением уставились на него.
- Гля! - воскликнул медно-рыжий.- Откуда он сорвался такой?
- Видать, божья коровка укусила,- предположил другой.
Не отвечая на их насмешки, Венька шагнул к своему вчерашнему обидчику.
- Ты! - закричал он гневно.- Ты за что вчера меня ударил?
Его противник осклабился, ища поддержки, посмотрел на дружков.
- А что? Хочешь, чтобы я тебя и сегодня огрел? Могу...
Договорить он не успел. Венька с размаху ударил его в скулу, потом дважды в нос. И тут случилось самое неожиданное: вместо того чтобы оказать сопротивление, крепколобый мальчишка обеими ладонями схватился за нос и с оглушительным ревом помчался от бугра к своему дому. Меж пальцев у него заструилась кровь. Медно-рыжий одобрительно покачал головой:
- Ну, ты ему и дал! Юшкой заставил умыться.
- Пусть первый не лезет,- буркнул Венька и, повернувшись к своим новым знакомым спиной, медленным шагом возвратился домой.
- Видала? - расхохотался Александр Сергеевич.- Ну что? Надо поздравить теперь победителя, а?
Надежда Яковлевна улыбнулась, но отрицательно покачала головой.
- Ни в коем случае, Саша,- возразила она.- Это же крайне непедагогично. За то, что Венька наказал своего вчерашнего обидчика, честь ему и хвала. Правильно сделал, что сумел за себя постоять. Но восторгаться тут нечем. Так недолго из него и уличного хулигана сделать...
Венька вбежал в комнату запыхавшийся и тотчас же бросился к банке с кипяченой водой. В ту пору многие боялись тифа и считали, что два стакана сырой воды непременно вызовут эту болезнь. Под страхом строгого наказания Веньку обязали пить только кипяченую воду.
- Много не пей,- осадила мать.- Сейчас завтракать сядешь. Оставь место для молока с мышьяком. Ты малокровный, тебе это полезно.
- С мышьяком не буду! - отчаянно завопил Венька.- И гематогенов ваших не буду.
- Тогда ложечку рыбьего жира,- просительно заговорил отец, но Венька наотрез отказался.
- Придется взяться за ремень,- едва сдерживая смех, пригрозила мать.
В это время хрипло зазвенел звонок над парадной дверью. Отец, а следом за ним и мать пошли открывать. Гришатка остался резать хлеб, а Венька, сгорающий от любопытства, ринулся в коридор и окаменел, увидав страшную картину. В их дом ввалилась целая процессия. Впереди шла расхристанная толстая бабка с широким морщинистым лицом, за ней - миловидная, очень стройная, коротко, по моде подстриженная женщина, а за ее спиной - другая, на нее похожая, вела за руку побитого Олега с грязным от слез лицом и ватными тампонами в расквашенном носу. Венька хотел удрать, но почувствовал вдруг, что ноги его прирастают от страха к полу. Увидав Веньку, Олег перестал выть, а женщина, продолжая держать его руку в своей, ожесточенно выговорила:
- Ну как же так все получается? Ведь вы же интеллигентные люди. Мы так обрадовались, узнав, что вы в этом доме поселились. И вдруг... Вы в техникуме преподаете, а сын ваш ни за что ни про что разбивает в кровь лицо моему Олежке. На окраине нашей и так от хулиганов прохода нет. Мы надеялись, что с вашим приездом доброго соседа приобретем, а ваш сын...
И вдруг неизвестная сила подтолкнула Веньку вперед, и он по-петушиному резко вскричал:
- Как это так ни за что ни про что! Нет, тетя, давайте по правде. Он меня на бугре вчера первый ни с того ни о сего вздул. Я же не жаловался!.. Отплатил ему сегодня, и все. А он вон сколько вас притащил...
Олегова мать растерялась.
- Да, но это было вчера,- неудачно возразила она.
- А какая разница,- вдруг заговорил с порога, шмыгая носом, Григорий.- Око за око, зуб за зуб. Так и во всех книжках Фенимора Купера про индейцев пишется.
Миловидная женщина потянула мать Олега за рукав и миролюбиво сказала:
- Идем, Лиза, их мальчик, по-видимому, прав.
- Нет, подожди, сестра,- остановила ее мать Олега. - Надо уточнить. Олежка, он говорит правду, что ты его первый...
- Правду,- не поднимая головы, буркнул Олег.
- Тогда извините,- остывшим голосом произнесла женщина.- Вот петухи! Я своему за нечестность еще дома трепку задам.
- Зачем же? - покашливая, сказал Александр Сергеевич.- Оба дрались, оба и виноваты. Я со своим тоже поговорю.
- Пусть лучше друзьями станут,- улыбнулась миловидная женщина, и вся процессия в том же порядке удалилась. А Венькина мать отвесила ему легонький подзатыльник и незлобиво сказала:
- Идем-ка лучше завтракать, Аника-воин, пока жаркое не остыло.
Дом на углу Аксайской и Барочной просыпался обычно очень рано. За ставнямп, закрытыми на литые железные засовы, еще хлопал бич пастуха и мычали коровы общественного стада, когда Надежда Яковлевна начинала укладывать в кошелку кульки и сумки, чтобы идти на базар. Открыв дверь в детскую, она с минуту смотрела на разметавшихся во сне ребят, определяя, кого ей взять в помощники. Если очередь была Бенина, но он спал без задних ног, она долго стояла на пороге и, понимая, что поступает несправедливо, все-таки обращалась к старшему:
- Гриша, а Гриша, может, ты со мною сходишь?
- Мам, я же вчера ходил,- отвечал сонный пасынок.- Пусть Венька.
- Гриша,- вздыхала мать,- да какой же из него помощник! А мне надо и мяса целую ножку купить, п сазанчика прихватить на завтрак. Ты у меня богатырь. Пойдем, а? А я тебе халвы или конфеток куплю.
Кончалось тем, что Гришатка шел умываться, недовольно сопя, одевался и вместе с нею уходил на рынок. Если отец не был измучен ночным приступом астмы, он тоже просыпался рано, открывал ставни, впуская в комнату потоки яркого утреннего света, делал зарядку по Мюллеру и плескался водой из умывальника. Ощущая на какое-то очень короткое время избыток сил, он останавливался перед широким наклонным зеркалом и подслеповатыми глазами подолгу вглядывался в посеревшее лицо с синими мешками под глазами. "Старею,- думал он горько.- Ой как выматывает она меня, эта проклятая астма". Потом, глубоко вздохнув, неожиданно раскалывал тишину сильным и мягким тенором, беря самые высокие ноты, не всегда доступные даже очень опытным певцам. Арии из "Травиаты", "Риголетто", "Кармен", "Мазепы" следовали одна за другой, оглушая Веньку, с детства возненавидевшего оперное пение.
Сердце красавицы склонно к измене И перемене, как ветер Мая...-
Пел, бывало, Александр Сергеевич, выпячивая грудь. Венька выскакивал в такие минуты из спальни босиком и, заткнув уши, орал:
- Замолчи, спать не даешь!
У этого его вопля была своя история. Когда Венька был совсем маленьким, от отцовского пения у него буквально разрывались барабанные перепонки. После того как сын впервые запротестовал против пения, Александр Сергеевич пришел в восторг и добродушно прощал ему подобную бесцеремонность, особенно в тех случаях, когда дома были гости, которых взрыв детской ярости приводил в умиление. Сейчас отец насмешливо посмотрел на его смуглые тонкие ноги и, дразня, сказал:
- Ладно, Венька. Вот эту арию сейчас попытаюсь вытянуть, хотя она и не для моего голоса, и будет тогда тебе полная пощада.
И опять задрожали в их доме стекла, когда, сделав устрашающее лицо, отец разразился яростным издевательскисмехом и запел:
На земле весь род людской Чтит один кумир священный.
Венька бегал по комнате, стуча о половицы босыми ступнями, затыкал уши пальцами, но отцов голос беспощадно врывался в них:
Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл, Сатана там правит бал, там правит бал...
Не осилив накатившего тяжелого кашля, отец внезапно с укоризной сказал Веньке:
- Дурак ты, братец! Вот вырастешь и сам поймешь, какой был дурак. Ты на меня кричишь, а люди остановились на улице и слушают.
- Ну да? - оторопел Венька.
- А ты подойти к окошку.
Венька протопал босыми ногами к угловому окну и удивленно застыл. Действительно, напротив их дома стояло несколько зевак. Соседская молочница тетя Даша остановилась как вкопанная с коромыслами на плечах и ведрами, доверху наполненными водой. Дядя Степа из двухэтажного кирпичного дома, игравший в оркестре городского драматического театра и считавшийся лучшим голубятником на всей Аксайской, хлопал в ладоши и кричал "браво", улыбалась тетя Лиза, мать побитого Венькой Олега.
- Уй ты, чудаки какие,- недоверчиво пробормотал Венька.- Неужели им нравится?
Но Александр Сергеевич не ответил и на эту его грубость. Он уже не видел ни собравшихся у дома соседей, ни пропыленной ветрами Аксайской улицы, ни родного сына, с лица которого быстро сбежала насмешка, сменившаяся удивлением. "Какие странные и непонятные эти взрослые, - в растерянности думал Венька,- если им нравятся отцовы песни про какую-то Кармен и загадочного тореадора". Мысленному взору Александра Сергеевича представились в эту минуту расцвеченный яркими огнями Петербург, афиша у входа в оперный театр, огромный затемненный зал и он сам в облачении испанского сержанта Хозе, оповещающего всех о своей любви к вольной цыганке Кармен. И великий Собинов, который подходит к нему в антракте, жмет руку с блестящими от слез глазами. А потом приглушенные голоса расходящихся зрителей, гаснущие люстры и актерская уборная, где Неточка Лосева в белом пеньюаре на кушетке, гася одну за другой последпие свечи, горячо шептала:
- Ты мой, понимаешь, мой... Или сейчас, или никогда... И будь решительнее, чем этот страдалец Хозе.
Петербург, Мариинский театр, огни Невского, где все это? Словно выдумал кто-то этот праздничный кусочек жизни...
Александр Сергеевич достал бритвенный прибор, налил в алюминиевую чашечку горячей воды, долго взбивал мыльную пену, а потом пышным помазком накладывал ее на серые щеки - на них так быстро всегда вырастала жесткая щетина. В хорошем настроении Надежда Яковлевна любила шутить:
- Эх, Саша, Саша! Если бы половина этой щетины у тебя на голове росла, а не па щеках!
Пожалуй, не было у Александра Сергеевича более ответственного занятия, чем бритье. В эти минуты он почти священнодействовал, и горе было тому, кто неосторожным вопросом или даже жестом пытался его внимание отвлечь. Гнев Александра Сергеевича был беспощадным. Если Венька приставал к нему с каким-нибудь необдуманным "А почему?", в ответ неслось яростное:
- Ты что, негодяй! Или хочешь, чтобы я из-за тебя горло себе перерезал? - Венька испуганно смолкал, а отец, старательно счищая мыльную пену с лезвия бритвы об листок газетной бумаги, строго договаривал: - Ты вот спрашиваешь, а ведь если я отвлекусь, то физиономию себе могу располосовать или горло перерезать. А какого тебе отца иметь лучше: без шрама на физиономии или со шрамом?
- Без шрама,- тянул Венька.
- Вот то-то и оно,- соглашался Александр Сергеевич.- Значит, предоставь мне возможность спокойно добриться.- И бритва продолжала с легким шорохом скользить по его лицу, оставляя дорожки на заросших жесткой щетиной щеках.
Дома Александр Сергеевич был весьма раздражительным человеком во всех тех случаях, когда что-то делалось не так. Если жена, жаря мясо или гуся, впопыхах забывала о заслонке и чад синеватыми волнами начинал гулять по комнатам, отец, схватившись за виски, мчался во двор и с отчаянием обреченного причитал:
- Так я и знал, Наденька! Вы все сговорились меня отравить, потому что я в этом доме становлюсь лишним. Еще один такой эксперимент с заслонкой - и вы меня отправите в лучший мир.
Надежда Яковлевна, подбоченясь, хохотала от души, чем приводила мужа в еще большую ярость. Однако своего апогея гнев Александра Сергеевича достигал в тех редких случаях, когда он обрушивал его на сыновей.
Однажды все воскресенье он промучился над составлением годового учебного плана для старших курсов по математике и геодезии, а расшалившиеся Веня и Гриша опрокинули на ватманский лист пузырек с тушью. Словно зайцы, бросились они наутек в дальний конец двора и спрятались в камышах, при одном прикосновении к которым до крови рассекалась кожа на руке или ноге. Топоча ногами и задыхаясь, отец побежал было за ними, но устало остановился на пороге и, грозя перстом, грозно прокричал на всю округу:
- Ох и понарожал же я вас на свою голову! Вот умру, сдохнете от голода...
Способность быстро раздражаться и приходить в ярость уншвалась в нем с необыкновенной добротой и постоянным родительским страхом за ближних. Если Надежда Яковлевна уезжала за покупками на полдня в Ростов, он без устали по нескольку раз повторял, когда она начинала собираться:
- Ты же смотри, Наденька, на поезд не опоздай.
- Да ведь до его прихода целых полчаса, а до площадки Цикуновки я за десять минут дойду,- возражала она.
- Мало ли что,- хмурился Александр Сергеевич,- а вдруг кассир свое окошко поздно откроет или очередь большая будет - вот и останешься с носом. На одной самоуверенности далеко не уедешь. А кошелек с деньгами -ты надежно спрятала? Смотри. Ростов после Харькова и Одессы третий город по воровству.
- И вовсе не третий, а первый,- смеялась жена.- Разве ты не знаешь, как у нас в Новочеркасске говорят? Ростов - папа. Одесса - мама. Получается, первый.
- Это не имеет значения,- ворчал Александр Сергеевич.- Зазеваешься - в миг очистят, а там разбирайся, первый или третий.
- Да не зазеваюсь, Саша,- добродушно успокаивала она.
Однажды, когда ребята остались дома одни, Венька спросил у старшего брата:
- Гришка, а как по-твоему, наш отец храбрый или нет?
- Не знаю,- последовал неуверенный ответ.
- А по-моему, он трус,- решительно заявил Венька.
- Это почему же?
- Да как же, у него и берданка есть, и порох, и дробь на кабана, и пыжи красненькие, которыми нам играть пе дает, а он ночью из дома выйти боится.
- Так ведь у нас же грабят,- шмыгнул носом Гришатка.
На Аксайской действительно грабили. Редко кто отваживался ходить по ней после полуночи безоружным. А если ночь заставала и вооруженного, тот всегда шел по самой середине улицы, стискивая в кармане холодную рукоятку пистолета, финки или кастета. По молчаливому уговору всякий раз, когда раздавался в ночную пору отчаянный крик, взывающий о помощи, домовладельцы в одном исподнем выскакивали в коридоры своих жилищ и начинали остервенело палить из охотничьих ружей в специально прорезанные в ставнях и дверях бойницы, рассчитывая на то, что грохот выстрелов обратит на себя внимание милиции.
В окне, выходившем из коридора во двор, прорезал такую же точно бойницу и Александр Сергеевич. В сырую промозглую апрельскую ночь со стороны станицы Кривянской однажды прошелся над городом шквал, играючи выламывая калитки и срывая с крыш листы кровельного железа. Дом Якушевых он пощадил, оставив вмятины лишь на водосточной трубе и оторвав половину железного листа на крыше. Затихающие порывы ветра ритмично то опускали, то поднимали этот лист, и негромкий скрежет среди ночи был отчетливо слышен и в зале, и в кабинете хозяина дома. Александр Сергеевич, накурившийся астматола и безмятежно почивавший в теплом ночном колпаке, проснулся и, приподняв голову, сторожко вслушивался в эти удары.
- Наденька, Гриша, Веня! - плачущим голосом оповестил он.- Вставайте! Лезут...- И трясущимися руками дослал в берданку патрон. Клацнул затвор. Александр Сергеевич приставил ружейное дуло к прорези окна и не очень уверенно выкрикнул:
- Перестаньте немедленно! В ГПУ заявлю!
Но задравшийся от ветра железный лист с тем же равнодушием стал вновь выстукивать: "бам... бам... бам".
- Господи! - пробормотал испуганно Александр Сергеевич.- Да ведь это же бандиты уже засов на ставне подпиливают.
Негромкий в туманной мгле, раздался на Аксайской улице выстрел, на который одни лишь собаки откликнулись. Александр Сергеевич продолжал вслушиваться в слякотную глубокую ночь, уже близившуюся к рассвету. Прошли минуты, и сквозь ослабевший стук дождя до его слуха вновь донеслось: "бам, бам, бам". Он снова отчаянным голосом стал грозить невидимым взломщикам:
- В ГПУ заявлю! Слышите?
И еще три раза палил в редеющую ночь из берданки Александр Сергеевич, пока шагавший на свою утреннюю смену на завод Фаслера Ваня Дронов не окликнул:
- Эй, Архимед! Ну чего всю Аксайскую перебаламутил? Кто сказал, что воры лезут? Это же ветер!
Много чудачеств водилось за Александром Сергеевичем, и все-таки Гришатка и Веня горячо любили отпа и про себя считали, что другого у них и быть не могло. Несмотря на свою вспыльчивость и ворчливость, был он удивительно добрым человеком, умевшим прощать ошибки и слабости другим, а иногда и над самим собою мог посмеяться в минуты откровения.
А какими удивительными были у них в доме долгие зимние вечера, когда ветер свирепо бился о надежно закрытые ставни, выл в трубе, а в комнате, служившей им в холода кухней, распространялось блаженное тепло от докрасна раскаленной плиты и в пузатом стекле керосиновой лампы мирно подрагивал желтый язычок огня. Близоруко склонившись над раскрытой книгой, отец читал "Тараса Бульбу". Голос его то гремел, то становился мягким или печальным вовсе. Венькина голова с постепенно темнеющими локонами покоилась на сомкнутых кулачках, а Гришатка сидел у отцовых ног, делая вид, что дремлет, потому что знал хорошо, что вот-вот дойдет очередь до самой тяжелой сцены.
- "Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен..."
Голос Александра Сергеевича становился глухим и тихим для того, чтобы взорваться минутой спустя и сразу подняться на небывалую высоту:
- "Ну, что ж теперь мы будем делать? - сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.
Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.
- Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Андрий был безответен.
- Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с копя!"
В эту минуту Венька бросался в детскую со слезами па глазах и головой падал в подушку, затыкая одновременно пальцами уши, чтобы уже не слышать, как убьет Тарас Бульба неверного своего сына.
- Саша! - недовольно кричала из другой комнаты Надежда Яковлевна.- Зачем ты читаешь ему это на ночь! Он же спать теперь не будет.
Александр Сергеевич откладывал книгу в сторону, подходил к сыну и гладил его по голове, утешая:
- Ну чего ты, дурашка. Неужели тебе жалко Андрия?
- Жалко,- всхлипывал Венька.
- Так ведь он же предатель!
- Ну и что же! А зачем его этот злой Тарас Бульба убивает? Он бы его мог попугать, и Андрий бы исправился.
- А ты как думаешь, Гриша? - тихо обращался отец к старшему сыну. Тот улыбался и скреб затылок.
- А я думаю, Тарас Бульба молодец. Правильно он в Андрея пальнул.
- Вот видишь, и Гриша, как Гоголь, считает.
- А он тоже, как и Тарас Бульба, злой,- тянул из-под подушки Венька.
- Это почему же? - допытывался отец.
- Потому что он стрекоз ловит и крылья им обрывает.
- А ты?
- А я нет. Я их ловлю и выпускаю. Александр Сергеевич рассмеялся.
- Ну ладно. Вставай, идем дальше читать Гоголя.
- А ты про страшное не будешь? - не без опаски спрашивал Венька, который до смерти боялся Гоголя и любил его бесконечно. Боялся, когда отец читал про философа Хому Брута, потому что всю ночь напролет потом снился страшный Вий с железными веками. Но еще больше боялся картинки, на которой рыцарь, закованный в латы, бросал в пропасть свирепого колдуна, загубившего много человеческих жизней, а из пропасти скелеты поднимали вверх костлявые руки, чтобы разорвать его в клочья.
- Не буду про страшное,- успокаивал отец,- я вам, хлопцы мои, знаете про что? Про то, как геройский дед с ведьмами в карты резался. Идет?
- Идет,- соглашался приободрившийся Венька, и чте-ние продолжалось.
А когда ребятишки засыпали, родители долго сидели над ними, и Александр Сергеевич, имевший большое расположение пофилософствовать, обняв за плечи супругу, тихо и медленно говорил:
- Видишь, как важно посапывают? Гришатка в одну сторону отвернулся, Веня в другую. А пройдет лет двадцать, и что-то с ними станется? Как интересно было бы узнать это. Что знает о себе человек? Ни один великий провидец не в состоянии предсказать, кем человек будет, какие добрые подвиги совершит, какие неудачи на своем жизненном пути потерпит. Человек ничего этого не знает.
- Откуда ты это все взял? - тихо сказала Надежда Яковлевна.- Может быть, они оба прославятся и не будет никаких неудач на их жизненном пути.
Александр Сергеевич подавленпо вздохнул:
- Слава - это тележка, в которую надо только попасть, а дальше она сама тебя повезет.
- Да, но спачала необходимо все-таки попасть, чтобы она везла.
- Моя тележка уже давно ушла,- грустно заметил Александр Сергеевич.- И я из нее выпал...
Надежда Яковлевна нежно погладила его руку.
- Ты в этом не виноват, Саша. ты бы в ней удержался, если бы не астма. А с астмой какой же ты оперный певец.
- Да-да,- грустно вздохнул Александр Сергеевич.- А ведь бывали времена, когда со шпагой на поясе в костюме рыцаря и в сапожках с серебряными шпорами игривым шагом выходил на сцену, и только рампа отделяла меня от притихшего зала. А как жутко было в него заглянуть!.. Море голов... И только от тебя, исполнителя, зависит, как оно заволнуется и зашумит. Разразится ли аплодисментами, в случае успеха, ограничится ли сдержанным шумом или ответит возмущенным ропотом, если ты "пустишь петуха", как это принято говорить. О, Наденька,- горестно вздыхал Александр Сергеевич,- разве можно это забыть тому, кто хотя бы раз почувствовал, как радостен нектар успеха и как горек вкус поражения... А мое поражение - это возвращение в межевой институт, фуражка замлемера, которую в революцию иные поборники свободы принимали чуть ли не за белогвардейскую, поездки но станицам, рейка и теодолит в желтом ящике, стоящие теперь в кабинете.
- И я в том числе? - усмехнулась жена.
- Нет, что ты! - пылко воскликнул он.- Ты только ослабила горечь поражения. Да и геодезия с математикой стали теперь моими родными сестрами. Но не убита еще одна мечта.
- Какая же, Саша?
- Сейчас не скажу. Потерпи немножко, Наденька, сама станешь свидетельницей.
И однажды, когда весеннее тепло уже совсем прочно завладело миром и над окраиной, утверждая смену времен года, с утра до вечера плавало щедрое солнце, отец вышел во двор, где, словно котята, баловались братья, и, критически оглядев Веньку, чуть хрипловатым от неровного дыхания голосом, лишь к нему одному обращаясь, сказал:
- Ты мне нужен, Вениамин. Умой получше физиономию, надень чистую рубашку и приходи к нам с мамой в кабинет.
- Пап,- разочарованно вздохнул Венька,- а мы с Гришей на Аксай собрались. Там отец Жорки Смешливого барм кас просмоленный на воду спускать будет. Покатать нас обещал...
- Погоди, не убежит твой баркас,- отрезал Александр Сергеевич.- Делай то, что я сказал.
Венька подавленно вздохнул и, когда отец ушел, посмотрел на старшего брата.
- Гришатка, ты не знаешь, чего он ко мне прилип?
Тот ножа л плечами:
- Откуда же?
Когда Венька, наскоро протерев водой из умывальника лицо, облачившись в глаженую белую рубашку и еще не разношенные сандалии, переступил порог отцовского кабинета, он немало удивился тому, что увидел. Все было обычным: солнце сквозь приоткрытую форточку скользило по зеленым, желтым и красным коленкоровым корешкам на полках книжного шкафа, в углу, прислоненная к печи, стояла берданка, в дальнем углу на полу желтел коробок с теодолитом. И только отец с матерью были какие-то необычные. Он-в темно-синем суконном сюртуке, в каком лишь в самые парадные дни уходил на службу, мать - в своем лучшем шерстяном платье, украшенном сверкающей золотом брошью, старательно причесанная, с торжественной улыбкой на тонких губах. Венька остановился и бесцеремонно доложил с порога:
- Ты звал? Вот я и пришел. Только скорее давай, чтобы на Аксайку успеть к спуску баркаса.
Никак не реагируя на его появление, отец сказал, обращаясь к одной лишь матери:
- Вот видишь, Наденька, оказывается, этот балбес в состоянии повиноваться родителям. Помнишь, я говорил тебе, что еще не убита во мне одна мечта, связанная с прошлым... с оперой.
- Помню, Саша,- подтвердила мать.
- Я всегда думал о том, что в закономерностях природы наследственность и повторяемость должны стоять на первом месте. Некоторые марксистские теоретики протестуют против этого. Однако настанет время, когда и они согласятся. Не могу же я уйти из жизни, не передав кому-то из детей либо моих математических, либо музыкальных способностей. И вот настал день, когда я хочу провести первый экзамен. Вчера я шел к дому, а наш Венечка копал под маслиной ямку и очень тихо, но в такой правильной тональности пел песню о жуке-водолюбе, которого выкинули на берег, но он не погиб, а снова нашел дорогу к воде. Я даже слова готов в памяти восстановить.- И Александр Сергеевич мягким, чистым тенором напел:
И видят люди, что за диво, Волною снова взят к реке, Наш водолюб плывет красиво - Он тут, и там, и вдалеке.
Отец умиленно протянул к мальчику руки:
- Венечка, ты так пел, кажется?
- А я, что ли, помню,- шмыгнул носом Венька,- это ты про своего Риголетто все помнишь, когда перед зеркалом про него кричишь, прежде чем побриться.
- Венечка,- вкрадчиво продолжал Александр Сергеевич, пропустив мимо ушей его грубость. Он сделал было попытку погладить сына по волосам, но Венька отстранился.- Венечка, может быть, ты присутствуешь сейчас при исторической минуте...
- Какой еще? - почесывая коленкой коленку, осведомился сын.
- Венечка,- продолжал отец,- я сейчас возьму камертон, и мы с тобой проведем следующий опыт. Всякий раз ты будешь стараться без слов петь, так, чтобы звучание твоего голоса сливалось со звучанием камертона. Ты понял, сынок?
- Понял, пап,- подтвердил Венька, которому хотелось, чтобы вся эта затеянная отцом процедура завершилась как можно скорее, потому что перед его глазами так и маячил припорошенный песком берег Аксая и баркас с бабайками, от которого так пронзительно пахло недавно застывшей смолой, что голова могла закружиться.
Александр Сергеевич ударил камертоном о брусок и дал знак сыну.
- А-а! - заревел как бык Венька. Отец мрачно вздохнул.
- Да нет,- страдальчески покривился он,- я тебя прошу, Венечка, пой вместе с камертоном. Так, чтобы ваши голоса сливались. Словно ты ему подпеваешь. Понял?
- Ага,- кивнул Венька.
В маленьком кабинете спова пропел камертон.
- Ну давай, Венечка,- прошептал поощрительно отец,- смелее, смелее.
- А-а-а-а! - рявкнул изо всех сил мальчишка.
На лице Александра Сергеевича отразилось разочарование и горькая обида, рожденная песбывшейся надеждой, и даже ярость.
- Пошел вон, болван! - закричал он внезапно.- Из тебя не только Карузо или Собинова, но даже Александра Сергеевича Якушева не получится. Убирайся из кабинета!..
- И на речку можно? - как ни в чем не бывало осведомился сын.
- Хоть к черту, только долой с моих глаз! - крикнул отец.
- Спасибо, пап! - засмеялся Венька и, выбежав в коридор, оглушительно закричал:
- Гришатка, пошли! Отец разрешил нам на речку. Ура!
С тех пор как Венька посчитался с Олегом и в драке расквасил ему нос, Аксайская улица снисходительно приняла его. Он теперь безбоязненно выбегал на бугор, свободно здоровался с соседскими мальчишками, знал их по именам и прозвищам и даже по фамилиям, которые были в значительно меньшем ходу по сравнению с кличками. Олег теперь всегда держался от него на почтительном расстоянии и здоровался с явным уважением. Рыжий сиплоголосый Жорка Смешливый, разглаживая медно-огненные вихры, одобрительно заметил:
- Мы тут у себя на Аксайской вразмашку деремся, а ты ему тычком сопатку разбил. Здорово ударил. А со мною не хочешь стукнуться?
Жорка был на полголовы выше, и Венька, поглядев па него, отрицательно покачал головой:
- Не... ты меня собьешь.
- Верно. Собью,- равнодушно согласился Жорка. - Я же тебя на три года старше. Давай на одну правшу стукнемся.
- Не, - запротестовал Венька.- Зачем же нам драться, если ты меня с братом на спасательную звал, на баркасе обещал покатать?
- И покатаю, если отец не раздумает,- полыценно согласился Жорка.- У меня знаешь какой отец? Утром одно, в обед другое, вечером третье. А матом как он ругается!.. Твой отец матом ругается?
- Не, - замотал головою Венька. Жорка неодобрительно вздохнул.
- Понятное дело. Интеллигенция.
В эту минуту к ним подошел Гришатка в старых брюках с заплатанными коленками и в серой сатиновой косоворотке. Жорка критически его оглядел, подумав про себя: "А ведь этот и меня может вздуть, если захочет. С ним надо ладить".
- Ну что мы - идем или не идем па спасательную?
- Идем, Гриша,- подтвердил рыжий Жорка. - Даже Олега можем с собою прихватить.
- Я не пойду,- замотал головою Олег. - Меня бабушка будет бить скалкой.
Венька вспомнил ту грузную старуху в пестром платке, которая, держа побитого Олега за руку, первой ворвалась в их дом, и участливо спросил:
- Она тебя часто бьет?
- Часто,- кивнул Олег и деловито осведомился: - А тебя скалкой разве не бьют?
- Нет,- покачал головою Венька.- Меня никогда не бьют. Только ругают, если нашкодил.
- Счастливый,- недоверчиво вздохнул Олег.
...С бугра открывался великолепный вид на займище. Разлив еще более обмелел, нарядные яхты и моторки уже не бороздили Аксай, за его основным руслом спавшая вода обнажила кусты прошлогодней куги. Серо-белые чайки почти цепляли крыльями воду. С юга на север прогрохотал курьерский поезд Сальск-Москва, и, глядя ему вслед, Жорка Смешливый грустно вздохнул:
- Вот бы в Москве побывать, а то всю жизнь проживешь в нашем Новочеркасске, а ее так и не увидишь.
- Всю жизнь,- передразнил его Гришатка. - Да сколько ты ее прожил, этой жизни-то?
- Девять лет.
- Тю! Я уже двенадцать, и то молчу.
Жоркин отец, такой же, как и он, огненно-рыжий, с мириадами веснушек на лбу, щеках и крепкой шее, действительно давно поджидал их у подтянутого к самой кромке берега зеленого баркаса, до того душисто пахнущего смолой, что голова могла закружиться. Коренастый и плечистый, он был облачен в брезентовую робу, на его ногах сидели ладно пригнанные высокие забродские сапоги с подвернутыми голенищами. Вопреки Жоркиным предсказаниям матом он не ругался, а встретил ребят весьма приветливо:
- Где ж это вы запропастились, негодники! Ждал вас, ждал, а теперь время вышло. Придется Жорке вас катать. Он у меня на бабайках крепко сидит, не утопит. А ты, парень, рулевым будешь,- кивнул он в сторону Гришатки.
Ребята расселись, и Жоркин отец столкнул баркас с берега. Вода глухо зашелестела за кормой. Плоскодонный баркас чуть-чуть качнулся, и Венька ощутил под ложечкой неприятный холодок.
- Ты не дрейфь,- сказал Жорка, не слишком глубоко погружая весла.
- Да я ничего,- покраснел Венька,- ты не подумай, что я трус. Я только плавать не умею.
- А я и не думаю,- миролюбиво согласился Жорка,- погляди, красотища-то какая оттого, что Аксай с Доном сливаются. Море целое!
Никогда еще в своей жизни не видал Венька такого приволья. И забыл он уже обо всем, отдавшись новым неожиданным впечатлениям: и об отце, рассерженном его безголосым пением, и о доме, и о бугре, где собиралась окраинная детвора. Чудный запах исходил от воды, плескавшейся за бортом. Конопатый Жорка изящно опускал и поднимал нз воды весла, иногда с тем особым шиком, на который способны настоящие гребцы, и тогда становилось слышно, как лодка с шуршанием сечет речную гладь. Ветра не было, и река казалась умиротворенно спокойной. Голубое небо висело над крутизною новочеркасских балок и улиц, над семью куполами кафедрального золоченого собора. От железнодорожной станции в небо поднимались паровозные дымки. Напротив семафора Жорка развернул свой баркас, и тот медленно, словно нехотя, поплыл назад к краснокаменной спасательной вышке. Гришатка попросился на весла, и был доволен, что Жорка их ему уступил, но дело не пошло. У нового гребца весла зарывались глубоко в воду, поднимая целые тучи брызг. Лодка то и дело крутилась на одном месте, словно на якоре. В конце концов он добровольно ушел на корму, а Жорка вскорости ловко причалил к мосткам и закрепил лодку на цепь.
На берегу их ждал парень Жоркиного роста с густыми, плохо расчесанными волосами и нагловатым взглядом блеклых невыразительных глаз. Он смачно сплевывал себе под ноги и критически оценивал братьев. Обращаясь к одному Веньке, сказал:
- Я Петька Орлов. А ты?
Венька назвался. Гришатке парень был чуть повыше плеча, но, видимо, не желая ударить в грязь лицом, он хорохористо спросил:
- Вы на Аксайской в угловом доме живете, что ли?
- С Петькой не шутите,- шепнул Якушевым Смешливый,- они сюда с бана переехали. У него старший братан уже в тюряге отсидел. Финкой одного в драке пырнул.
- Это верно,- охотно подтвердил парнишка.- У нас, у Орловых, закон такой: если кто поперек, перышком распишем, и все тут. Мы и с тобой, Жорка, должны будем подраться,- неожиданно обратился он к Смешливому, а то вся Аксайская и низовые проходу не дают, все допытываются, кто сильней. Низовые говорят, что я, аксайские - что ты. Дрон и тот посмеивается. Говорит, какой же ты орел, если рыжего Каешу побить не можешь.
Жорка откинул назад прилипший к вспотевшему лбу медный вихор и упрямо сказал:
- А я не хочу сейчас с тобой драться.
- Это почему же? - опешил Петька Орлов.
- А потому, что злости на тебя взаправдашней пока не имею.
- Tю! - удивился Петька, шмыгнув носом, под которым в любое время года всегда висела капля, и зашагал к себе домой. Венька, чтобы хоть как-нибудь развеять плохое настроение Смешливого, ободряюще промолвил:
- А ты, Каеш, не унывай... ты его обязательно собьешь. Это он от фасона только задирается, а на самом деле тощий, как скелет.
- Ты думаешь? - воскликнул ободренный Жорка.- Вот и я так считаю. Придет время, он еще увидит.
- Да чего там увидит? Ты его одним ударом одолеешь.
На следующий день, получив от матери разрешение гулять на бугре, Вепька позвал Олега, который после разбитого носа стал его верным вассалом, и предложил отправиться па реку. Едва успели сойти с бугра по крутому Барочному спуску, навстречу Петька Орлов босиком, в трусах и красной выцветшей футболке.
- Ты иди,- повелительно приказал он Олегу.- Домой возвращайся, суслик, иначе бабка за то, что ушел на речку без спроса, скалкой отколотит. А ты, профессор кислых щей, останься. Не бойся, бить тебя не буду. Отойдем в сторону, есть разговор.
Петька привел Веньку опять на бугор, для острастки встряхнул за воротник. Венька чуть побледнел, но вида, что испугался, не подал.
- Отпусти,- сказал он, хмуро набычившись.
- А то что? - полюбопытствовал Петька.
- Ничего,- буркнул Венька, и Орлов его действительно отпустил.
- Ладно, козявка,- проговорил он снисходительно. - Ты лучше вот что мне скажи. Только честно, как в школе учителке на уроке отвечаешь.
- А я еще в школу не хожу.
- Такой бугай и не ходишь? Ну да ладно. Ты вчера при нашем разговоре с рыжим Каешей присутствовал. Как думаешь, кто из нас кого собьет?
Зеленые наглые Петькины глаза бесцеремонно вонзились в Веньку, и тот понял, что будет незамедлительно поколочен, если назовет победителем Смешливого. И тогда, вероятно, первый раз в своей жизни, он решил сдипломатпичать, насколько ему могли позволить возможности дошкольника.
- Постой, не бей. Я тебе правду скажу,- зачастил Венька. - Ты ведь сам говорил, что у тебя все братья с финками ходят. А Жорка Смешливый, он что! Рыжий, да и только. Ясное дело, твоя возьмет.
- Ну, тогда иди куда хочешь,- уже добрее сказал Орлов, и Венька с поникшей головой зашагал домой. Внутри у него проснулось страшное недовольство самим собой. "Как же так,- казнил себя Венька.- Он же меня и Гришатку на баркасе столько катал, а я!"
Дома ужасно невкусными показались горячие котлеты, которые мать только-только сняла со сковороды. Они буквально становились колом в горле. Едва лишь он успел покончить со второй, со двора пришла мать, кратко сказала:
- Сынок, там тебя двое дожидаются. Этот рыжий, что всегда с тобой, и еще какой-то. Просят на улицу выйти. Если покушал, можешь идти, я не возражаю. Погода хорошая стоит.
Ничего не подозревая, обрадованный Венька через дворовую калитку выбежал из дома. Тяжелый железный засов на дверях парадного открывался обычно лишь для отца, когда тот возвращался со службы. Все остальные ходили через калитку. Венька огляделся. Под углом их дома на корточках сидели Жорка Смешливый и Петька Орлов. При его приближении они оба вскочили, будто подброшенные одной пружиной.
- А-а, это ты,- врастяжку произнес Петька и, шмыгнув носом, кивнул па бугор.- Пойдем-ка туда, голубок.
Они, словно конвоиры, стали по обе стороны от Веньки. Жорка слева, Орлов справа, и это насторожило его. Ощутив неприятный холодок, Венька спросил:
- На речку пойдем?
- Подожди, не до речки, - отрезал Петька, - с тобой сначала по душам надо поговорить будет.
На самой вершине бугра лежал желтый ноздреватый камень-ракушечник.
- Садись,- предложил Орлов,- мы тебя сейчас будем судить.
- Судить? - охнул Венька.- Да за что же? Разве я бакалейку ограбил или кого раздел?
- Нет, ты подожди, шкет,- сурово оборвал его Петька.- Мы тебя действительно будем судить по законам нашей окраины. А за что, сейчас узнаешь. Жорка, скажи ему.
Смешливый, потоптавшись на уже затвердевшей от солнца земле, неохотно произнес:
- Ты, Венька, вел себя совсем как двуличный человек. А теперь отвечай на мой вопрос: говорил ты мне или не говорил, что я собью Петьку Орлова?
- Говорил,- опустив голову, протянул Венька, ощущая, что щеки его начинают пылать.
- А ведь Петьке Орлову ты говорил совсем другое. Что он меня собьет, а но я его.
Венька молчал. Шершавый камень-ракушечник впивался ему в икры, не защищенные коротенькими штанишками. Теперь он понял, зачем ребята, потащили его на бугор, даже не побоявшись обратиться для этого к матери. Он долго молчал, пока Орлов не ткнул его ногой в тощую ягодицу.
- Отвечай, ты говорил это или нет? Чего молчишь?! Не строй из себя покойника. Было это или не было?
- Было,- подтвердил наконец Венька.
- Так,- мрачно заключил Петька и провел рукавом футболки по своему носу, под которым назревала предательская капля. - А теперь к делу. Суд в составе рыжего Жорки, по прозвищу Каеша, и Петьки Орлова, меня то есть, вынес решение: приговорить двуличного Веньку к двум затрещинам. Палач Жорка Смешливый, исполняй.
Рыжий Жорка сделал шаг к Веньке и ударил его ладонью в затылок. Ударил не сильно, только волосы взъерошил. Затем над ним склонился Орлов и залепил звонкую пощечину, от которой у приговоренного посыпались искры из глаз. Но и она не причинила Веньке такой уж боли. На Аксайской били и не так. Почему же Венька, сам не понимая отчего, разразился такими рыданиями, что даже "палачи" опешили. Переглянувшись, они молча разошлись в разные стороны от бугра, а у наказанного Веньки долго еще продолжали вздрагивать плечи, и несказанная обида не давала покоя.
Венька плакал от чистого сердца и вовсе не оттого, что его побили, а от обвинения в двуличии, считавшемся самым тяжелым грехом среди мальчишек Аксайской улицы. Он глядел на солнце, повисшее высоко в небе над зеркалом спадающего разлива, и оно предательски расплывалось. Расплывались лодки, сновавшие по реке, и даже красные вагоны товарняка, промчавшегося по железнодорожной насыпи. Венька несколько раз протирал глаза, но окружающие предметы продолжали двоиться, а от обиды спазма перехватывала горло. Он долго просидел на бугре в тоскливом одиночестве. Просидел до той поры, пока мать не прислала Гришатку звать его на обед. Но этот день был окончательно испорчен. Часто потом, много лет спустя, и в мирные дни, и на фронте, когда надо было принять единственное решение, Венька вспоминал Аксайскую улицу, залитый солнцем бугор и то, как два "палача" приводили в исполнение свой обидный, но справедливый над ним приговор.
...У Венькиного отца был друг Виктор Михайлович Рудов, преподававший в том же самом землеустроительном техникуме водоснабжение, человек лет под пятьдесят, но еще сохранившийся, стройный, без единого седого волоса. Прическа "ежик" делала его чем-то похожим на Керенского. Это сходство усиливало и то обстоятельство, что почти всегда Рудов носил китель военного покроя. Виктор Михайлович и на самом деле когда-то был военным инженером, а потом попал в немецкий плен, оттуда бежал и очутился в войсках Котовского. Жил он одиноко и замкнуто, никто из окружающих и сослуживцев не был с ним близко знаком, и трудно было объяснить, отчего у Александра Сергеевича именно с ним завязалась тесная дружба. Астма не могла воспрепятствовать Венькиному отцу делать иногда продолжительные прогулки, и постоянным спутником в них бывал обычно Рудов. В условленное время он подходил к их дому и где-нибудь на углу Барочной и Аксайской, а то и на том самом знаменитом бугре, на котором собирались мальчишки, поджидал своего товарища.
На одну из таких прогулок отец взял младшего сына. Идти решили на Голицыну дачу - так именовалась небольшая церковь-часовенка, расположенная в трех километрах от пригородной платформы Цикуновки, совсем близко от хутора Мишкина, где когда-то находилось имение атамана Матвея Ивановича Платова. По преданию, дача эта была построена на средства одной из его родственниц, Марфы Ивановны Голицыной, урожденной Платовой. Прах же самого Матвея Ивановича, скончавшегося от удара в 1818 году, долгие годы находился в склепе на хуторе Мишкином, и лишь через годы был перенесен в новочеркасский собор.
Пока они брели по железнодорожным путям, предусмотрительно сходя на откос, если с севера или с юга проходил поезд, Венька наслушался массу интересных рассказов Рудова об атамане Платове. Бодро вышагивая по шпалам, высокий, худой и негнущийся, тот восклицал, простирая вперед длинную руку:
Хвала, наш Вихорь - атаман, Вождь невредимых, Платов! Твой очарованный аркан Гроза для супостатов. Орлом шумишь по облакам, По полю волком рыщешь, Летаешь страхом в тыл врагам, Бедой им в уши свищешь; Они лишь к лесу - ожил лес, Деревья сыплют стрелы; Они лишь к мосту - мост исчез; Лишь к селам - пышут селы.
- Ну как, Александр Сергеевич?
- Что как? - улыбнулся Венькин отец.- Декламация или стихи?
- И то и другое, разумеется.
-Декламация - лучше не бывает. А стихи хороши, но несколько архаичны.
- Архаичны,- передразнил Рудов.- Да вы знаете, батенька, чьи это строки?
- Не-ет-с.
- Жуковского, милый мой. И написаны они вскоре же после победы над Бонапартом были. Вот-с. А вы на донской земле родились и не удосужились их прочитать.
Александр Сергеевич обидчиво поджал губы:
- Я, мил человек, не только на донской земле явился на божий свет, но и своим рождением некоторым образом графу Матвею Ивановичу Платову лично обязан.
- Врете,- пробасил Рудов.- Может, еще Александру Македонскому?
- А вот и не вру! Если бы Матвей Иванович Платов не принял в свое время в донские казаки беглого холопа Андрея Якушева, не было бы ни меня, ни тем более вот этого прыгунка,- кивнул он на сына.
- Ин-те-ресно,- по слогам произнес Рудов.- Доказывайте, как же это случилось.
Пока Александр Сергеевич вкратце рассказывал сослуживцу историю своего рода, Венька бегал рядом с железнодорожной насыпью, ловил и отпускал бабочек-капустниц и почти не прислушивался к разговору взрослых, потому что эту историю он уже слышал не однажды и знал почти наизусть все, что произошло с его знаменитым прадедом.
Дорога к часовенке его потрясла. Еще никогда не видел мальчик такого приволья. Аксай уже вернулся в свои берега, от щедрого разлива остались лишь небольшие озерца непросохшей воды, и в каждом из них сияло по солнцу. Можно было подумать, что в небе донского края оно тысячеликое. Слева от насыпи, на правом берегу Аксая, веселой зеленью шевелилась живая стена камышей, на лодках, приткнутых к суше, важно покуривая, сидели рыбаки, время от времени забрасывая в воду леску удилищ. У одного даже пойманная рыбка засверкала серебром в прозрачной синеве воздуха, ослепив Веньку. Высокие строгие тополя как свечи стояли за железнодорожной насыпью, обложенной крупным гранитным камнем. Они то взбегали по крутому откосу вверх, то, делая живописную полупетлю, спускались вниз. Листвой оделись тутовые и вишневые деревья, на их стволах желтели размягченные солнцем бугорки смолы, и пчелы, не нарадуясь наступившему теплу, весело над ними жужжали. Венька захотел пить, и Рудов, прерывая беседу с его отцом, тотчас же сказал:
- Мой юный друг, тебя, кажется, замучила жажда? Потерпи. Еще шагов сто, и ты отведаешь великолепной ключевой водицы, способной соперничать с шампанским самой мадам Клико.
И действительно, вскоре они сошли с насыпи и в нескольких метрах от нее обнаружили запрятавшийся в кустарник родник. Встав на колени, мальчик склонился над ним и увидел свое отражение.
- Папка, посмотри, лучше, чем в зеркале!
- Откуда вы знаете столь точно место этого родника?- удивился Александр Сергеевич.
- Я же не топограф, как вы,- усмехнулся Рудов,- а водоснабженец. К тому же прогулки, Александр Сергеевич. Прогулки, сопряженные с наблюдательностью. А она одна что у топографов, что у поэтов, что у самых заурядных инженеров-водоснабженцев. Так что прогулки.
- И под луной? - ехидно уточнил Якушев.
- В том числе и под луной, - засмеялся Рудов. - Ведь я же старый холостяк. Было бы с кем прогуливаться, а луна всегда на месте. Между прочим, об этом роднике вам тоже небезынтересно знать. Когда я составлял карту водоснабжения Новочеркасска, то заинтересовался его историей. Оказалось, он существует со времен Платова. Граф чарку доброго вина всегда обожал, и не исключено, что по утрам, когда голова трещала, подходил к этому роднику, чтобы опохмелиться да на лик свой атаманский посмотреть, пристойно или непристойно ему ехать в оном виде в Черкасск службу править. Эй, Веня! - крикнул он карабкавшемуся на насыпь мальчику. - Вкусна вода или нет?
- Как мед, - послышалось в ответ. - Только холодная страшно. Аж зубы ломит.
- Ну, вот видите, какая высокая оценка, Александр Сергеевич.
Якушев сбоку пристально всматривался в смуглое оживленное лицо Рудова. Видел ребячье озорство в прищуренных от солнца глазах, морщины на щеках, которые еще не в силах были состарить инженера, жесткий непокорный ежик волос на голове. И этот приближающийся к своему полувековому юбилею холостяк казался ему еще удивительно крепким и бодрым. Подавляя подступающую одышку, он негромко спросил:
- Виктор Михайлович, а Виктор Михайлович!
- Ась, - отозвался инженер, шагая по нагревшемуся рельсу и балансируя руками, чтобы как можно дольше удержаться на нем.
- Ну почему вы не женитесь? Такой красавец мужчина, полный сил и энергии...
- Осторожнее, Александр Сергеевич, - замер на рельсе Рудов и поднял вверх руку, чтобы удержать равновесие. - Это только в некрологах пишут "ушел от нас в расцвете сил и энергии". А я еще уходить не собираюсь. Хочется донскую степь потоптать, ну хотя бы с десяток лет. А что касаемо красоты, то в одной из своих любимых арий вы не без основания поете, любезный Александр Сергеевич, о том, что "сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая". Была когда-то и у меня красавица, дочь тайного советника Тункеля, обрусевшего немца. Я сделал ей предложение и получил отказ от папы. А сколько было обоюдных клятв в любви и вечной верности! Но генерал решительно встал между нами.
- И получилось, как в известной песенке: "Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он ей в любви объяснился, она прогнала его прочь"?
- Что-то вроде этого, Александр Сергеевич, - грустно улыбнулся Рудов. А потом была Сонечка. Но это уже настоящая жена была, смею заверить. Однако, пока я в Туркестане в большом городе водопровод строил, она успела роман завести с негоциантом Полуэктовым и сбежала. Ну да ладно, - закончил он и почти без паузы спросил: - А у вас, Александр Сергеевич? По-моему, ваша Надежда Яковлевна серьезная и степенная женщина и вам с ней легко... И это у вас первая и последняя любовь.
- Не первая, - просто поправил его Якушев. - Она у меня вторая, и я у нее второй. Двое детей у нас. Венечка наш общий, а Гришенька мой и покойной Настеньки.
- Да разве это имеет какое-нибудь значение! - отмахнулся Рудов. - Важно, чтобы она вас любила и была верной.
- Мама у нас верная!-крикнул бежавший за ними вприпрыжку Венька.
- Вот видите, - рассмеялся Якушев, - не зря же говорится в пароде, что устами младенца глаголет истина.
Сквозь ветви зазеленевших деревьев уже просматривался остов облезлой церквушки-часовенки с пустыми глазницами окон и давно сорванной входной дверью. Когда путники вошли в нее, их взглядам предстала унылая картина. Стены были исцарапаны, на полу валялись клочья невесть каким путем попавшей сюда бумаги, грязное тряпье, пустые бутылки. Остановившись на пороге, Рудов грустно вздохнул и прочитал одну из надписей:
- "Здесь обитал верный царский холоп граф Платов и его семья". - "Да, не пожелал бы я на месте Платова воскреснуть, чтобы увидеть такую эпитафию", - подумал он.
Прохладные апрельские сумерки уже опускались па окраину, когда они возвращались домой. Рудов всю обратную дорогу был молчаливым и хмурым. Он наотрез отказался зайти к Якушевым на ужин и, торопливо попрощавшись, зашагал вверх по крутой Барочной улице. Якушевым открыл Гришатка, в руках у которого была раскрытая книга. В большой комнате стрекотала новенькая швейная машинка фирмы "Зингер". Надежда Яковлевна всплеснула руками:
- Уже пришли! А у меня еще ничего не готово на ужин! Боже мой, чем же я вас накормлю? Кроме сметаны и черного хлеба, в доме ничегошеньки, да еще две тарелки вчерашних щей...
Александр Сергеевич хлопнул в ладоши и весело воскликнул:
- А давай их сюда, щи да пироги! Все будем есть!
Никогда еще сметана с краюхой ржаного хлеба не казалась мальчишке такой волшебной едой, как сейчас. Ел Венька так, что у него шевелились уши. И все было хорошо, но в жизни веселое или смешное при неосторожном с ним обращении нередко превращается в грустное, а тот, кто разрушает веселое, даже не всегда догадывается об этом. Болтая от удовольствия ногами, Венька охотно распространялся о прогулке, совершенной на Голицыну дачу: ,
- Ох, мама, а Голицынская церковь знаешь, какая разрушенная! Окна и двери повыбиты, темнотища, аж жуть! По ночам туда летучие мыши залетают, и совы даже! Страшно в ней как!.. Я бы ни за что туда ночью зайти не согласился. Чего доброго, еще Вий туда пришел бы и закричал: "Поднимите мне веки! Поднимите мне веки!" Да и Платов мог бы встать с того света.
- Ешь, ешь, - добродушно прервала мать, - смотрика, вон и физиономию всю сметаной вымазал. А Платова никогда не бойся. Если бы он даже встал из гроба, чего никогда не бывает на самом деле, он бы тебе плохого не сделал.
В руке у Веньки застыла ложка:
- А почему? Мертвяки, они злые.
- Потому что он сильно любил твоего прадеда. Вот вырастешь, отец тебе расскажет об этом.
- "Отец" - это плохое слово, - заявил неожиданно Венька. - Оно грубо звучит. Вот ты, мама, его говоришь - и как будто в барабан большой стучишь. А надо говорить "папа". Это по-доброму, как на флейте.
- Смотри ты, стилист какой растет, - от души рассмеялся Александр Сергеевич.
Венька ржаной корочкой тщательно выскреб остатки сметаны со дна глиняного горшка и весело сообщил:
- А на обратном пути папа с дядей Рудовым все о же-пах говорили. Верные они или неверные. А ты, мама, у папы верная?
Надежда Яковлевна вспыхнула и рассмеялась:
- А ты как думаешь?
- Да я что, - болтая ногой, ответил Венька, - я ничего в этом не понимаю, я еще маленький.
- Ладно, Венька, ступай-ка ты спать, с отцом я отдельно поговорю, - сурово заключила мать.
В доме Якушевых не было ни одной двуспальной кровати. Когда стихли детские голоса, Надежда Яковлевна в длинной ночной рубашке подошла к уже успевшему лечь Александру Сергеевичу, села у него в ногах и сдавленным голосом тихо сказала:
- Как же это ты так, Саша? Можно ли о таких вещах при ребенке?..
- Отпусти мою душу на покаяние, - сонно ответил муж. - Кажется, старушонка астма дает мне сегодня передышку. Разреши этой ее милостью воспользоваться. А ты... ты у меня самая верная и самая красивая. Других слов я этому замшелому холостяку Рудову сказать не мог.
Надежда Яковлевна погладила жесткую щеку мужа и ушла. Сон ей плохо давался в эту ночь. Снова живым видением вставала в затуманенном от усталости мозгу все та же картина, которую она сама от начала до конца придумала: широкое поле и тучные, налитые зерном колосья, склоняющиеся от ветра к земле. Идет по этому полю ее первый муж Ваня в туго перетянутой ремнем армейской гимнастерке навстречу своей последней беде... "Кому же я верна? - с грустью спросила себя Надежда Яковлевна. - Памяти о погибшем или живому Александру?" Спросила и не нашла ответа.
На Аксайской улице все дворовые собаки вне зависимости от породы, масти и экстерьера разделялись на три категории, кратко обозначенные так: полканы, барбосы и шавки. Пожалуй, нигде в мире нельзя было найти таких ярых и дружных псов. Одинокому прохожему трудно было проследовать в темное время по Аксайской без того, чтобы не возмутить их спокойствия. Не знакомому с нравом аксайских собак путнику тяжко приходилось, если он по своей неосведомленности беспечно шел мимо раскрытых калиток и подворотен. Полканы, барбосы и шавки стремительно выскакивали на улицу, норовя ухватить его за штанины без всякого предупреждения. Лишь только с мальчишками новочеркасской окраины были у них прочно сложившиеся добрые отношения. Выходя на улицу, мальчишки тайком от матерей всегда старались набить свои карманы корочками хлеба, мясными косточками, а то и колбасными обрезками.
Завидев их еще издали, собаки наперегонки мчались навстречу, с добродушным повизгиванием обнюхивали карманы и, ожидая подачек, умильно заглядывали в глаза своим маленьким покровителям.
Была теперь и у Веньки Якушева своя любимица, которая в его присутствии никого не признавала, - желто-белая сибирская лайка Мурза с обрубленным хвостом, одна из наиболее свирепых в окрестностях. Она жила в пустом подвале двухэтажного жактовского кирпичного дома, но не имела одного определенного хозяина, потому что ее кормил и поил весь двор, а иногда и никто. В отличие от других многих своих собратьев гордая Мурза никому не позволяла посадить себя на цепь и даже чуть не покусала руки сапожнику Даниле, пытавшемуся это сделать в состоянии изрядного подпития. После этого восхищенные мальчишки со всей Аксайской улицы встречали неудачника Данилу веселым криком, выражавшим полную поддержку белой лайке с желтыми подпалинами.
- Не умер Данила, чума задавила!
К Веньке Мурза относилась по-особому. Завидев своего покровителя издали, она начинала вилять обрубком хвоста и садилась на разогретые солнцем камни. Когда расстояние меж ними сокращалось до пяти-четырех шагов, лайка и вовсе припадала животом к камням и вдруг бросалась с повизгиванием навстречу. Это была отработанная многими днями игра. Захлебываясь тонким лаем, Мурза толкала Веньку передними лапами в грудь только затем, чтобы он немного наклонился и она теплым красным языком лизнула его в лицо. Ребята с завистью наблюдали за тем, как гордая неприступная лайка становилась бесконечно ласковой и веселой. Венька рылся в карманах и доставал оттуда одно лакомство за другим. Гладя ладошкой собачью голову, сердито бормотал:
- Псина, беленькая ты моя, вот тебе еще и кусочек сыра в придачу.
Ребята нагибали головы и делали вид, будто не замечают вспышек этой нежности. Как была сильна мальчишечья ревность в эти минуты!
Но однажды чуть было не случилось непоправимое. Время от времени по Аксайской улице, громыхая плохо смазанными колесами, проезжала телега, которой правил одноглазый Мирон, человек средних лет, угрюмый и нелюдимый. Рядом с ним почти всегда сидел конопатый подросток Филька с блеклыми равнодушными глазами, держа перед собой огромный сачок, предназначенный отнюдь не для ловли бабочек, а для погони за бездомными собаками. Впрочем, под бездомной подразумевалась любая псина, неосмотрительно удалившаяся от своего жилища. За спинами Мирона и Фильки вздрагивала на телеге решетчатая клетка, именуемая халабудой, в которой стонущими голосами молили о пощаде лохматые узники.
Телега эта обычно начинала свой путь почти от кирпичного завода, а завершала у Крещенского базара, на другом конце города. Мирон и Филька получали с отлова приличные комиссионные, поэтому обнаруживали отменное рвение в своей работе. При появлении халабуды тишину Аксайской улицы то и дело оглашали мальчишеские голоса: "Жорка, хавай своего Гвоздика, а то одноглазый Мирон в клетку посадит", "Митька, загоняй Тобика домой!".
Венька в тот день вышел на улицу в благодушном настроении. Его карманы были набиты белыми сухарями, предназначенными для Мурзы, и она, весело скаля зубы, уже бежала навстречу. Вдруг чья-то тень пересекла меж ними дорогу. Послышался отчаянный визг, и серый брезентовый мегаок накрыл собаку. На всю Аксайскую разнесся безнадежный вопль.
- Дядя Мирон! - раздался торжествующий голос Фильки. - Смотри, на мыло какую принцессу поймал!..
- Герой! - лениво подтвердил одноглазый. - Только зачем же на мыло? Мы ее на коммерцию пустим, потому что собачонка знатная. Глядишь, и на полбутылочку дополнительно заработаем. Ась?
Веньку словно кто-то подтолкнул в спину. Горячая волна крови звоном ударила в виски, и он подбежал к вознице.
- Дядя Мирон, отпусти. Она не бродячая. Это наша собака.
Одноглазый Мирон сплюнул семечную шелуху и презрительно выговорил:
- А откуда ты взял, что не бродячая? Ежели на улицу выбежала, сталоть, уже и есть бродячая и по закону нам принадлежит. А ты еще несмышленыш и не ведаешь о том, что есть постановление. Там сказано, что всех бездомных уничтожать надоть, чтобы они бактерий всяких заразных не разводили, значитца. Ступай домой мамкину титьку сосать. Не дорос еще, чтобы мне указывать, я декрет сполняю.
За Мурзой уже защелкнулся замок, и она оттуда, из самой глубины клетки, с безмолвным отчаянием смотрела желтым глазом на одного только Веньку. И тогда мальчик понял, что, если не сделает сейчас чего-то решительного, собака погибнет.
- Дядя Мирон, выпусти! - закричал Венька. - Ты не имеешь права собаку мою убивать!
Одноглазый Мирон перестал лузгать семечки и расхохотался. Эта игра начинала его забавлять. За телегой мрачно шествовали аксайские мальчишки: Жорка Смешливый, Петька Орлов, Колька Карпов, Олег. Из ближних дворов выскакивали другие и примыкали к этой процессии.
- А ну геть, не то огрею!-погрозился Мирон и поднял кнут.
Венька сначала оцепенел, но вдруг какая-то непонятная волна будто бы подняла его на огромную высоту, и, уже ничего, кроме ярости, не ощущая, он схватил в руку тяжелый ноздреватый ракушечник и отчаянно закричал:
- Ребята, каменьями его! Каменьями!
...Позже, много лет спустя, когда надо было впервые в жизни подавлять огонь зениток, выплевывающих с земли в их одинокий Ил-12 десятки килограммов раскаленного металла, он вспомпил этот случай из затуманенного временем детства, чтобы отвести от себя волну страха, и это удалось...
Венькин камень-ракушечник попал в спицу колеса и раскололся желтыми брызгами. Камни других ребят застучали по клетке с собаками. Филька трусливо схватился ладонями за виски.
- Дядя Мирон, они же головы нам пораскровянят...
- Погодь! - сурово оборвал его одноглазый и остановил телегу как раз на самом скрещении Аксайской и Барочной. Из окон якушевского дома все происходящее было видно, как на ладони, и Венька похолодел при мысли, что отец или мать станут невольными свидетелями всей этой баталии.
- Погодь! - повторил Мирон. - Я из него сейчас мокрое место сделаю, ноги из задницы повыдергиваю!
Одноглазый грозно шагнул к Якушеву, и Венька почувствовал неодолимую тяжесть в коленях, словно какая-то сила приковала его к земле. Другие ребята попятились. Один Жорка Смешливый поднял увесистый кирпич и, сверкая глазами, крикнул:
- А ты его отпусти, дядька. Отпусти, слышишь, не то...
- Что "не то"?.. - осклабился Мирон.
- По кумполу тебя тресну! - решительно сказал Жорка и выругался так длинно и замысловато, как только на Аксайской умели ругаться.
Одноглазый, готовившийся схватить Веньку за руку, вдруг повернулся к нему спиной и шагнул к Смешливому.
- Венька, беги! - крикнул Жорка товарищу, но увидел, что тот не двинулся с места, лишь наклонился и взял в руку второй кирпич.
- А я его не боюсь! - закричал вдруг Венька. - Убивать будет - не испугаюсь. Живодер, палач, белогвардеец... Только тронь Жорку, я тебя по затылку сзади!..
- Пацаны, а мы? - крикнул самый старший из всех Колька Карпов, и все как по команде потянулись за камнями.
Пожалуй, во всем Новочеркасске не дрались так мастерски камнями, как на окраине, и не одна лихая голова облачалась после таких драк в белые бинты, которые то и дело темнели от крови. Трудно было сказать, чем бы закончилось столкновение десятка мальчишек, воинственно державших в руках кирпичи, с ловцами собак, если бы не раздался в эту мипуту веселый бас:
- А ну-ка, станишники, докладайте, что здесь происходит и по какому случаю вы такие всклокоченные?
Это от бугра вверх по Барочной улице, лениво поплевывая желтыми тыквенными семечками, поднимался веселый богатырь Ваня Дронов. Был он по какой-то причине принаряжен: белая рубашка с воротничком апаш, открывающим сильную, коричневую от раннего загара грудь, белые, наглаженные в стрелку парусиновые брюки, белые туфли, начищенные разведенным зубным порошком. Дрон добродушно улыбался, демонстрируя свои идеально белые зубы. Обращаясь к одному Петьке Орлову, сказал:
- Так что здесь случилось?
- Он нас побить хотел, - хмуро ответил Петька Орлов.
Дронов небрежным взглядом удостоил охотника за собаками и произнес:
- Осмелюсь спросить, по какой такой причине ты, дядя, хотел побить моих станишников? Чем тебе помешали эти пацаны, если не секрет?
У Мирона яростно засветился зрячий глаз:
- А тебе какое дело? Почему я отчитываться перед тобою должон?
- Раз на нашу Аксайскую заехал, значит, должен и отчитываться, - спокойно пояснил Дрон.
- Вон тот сопляк, - кивнул ловец на Веньку, - требует, чтобы я белую лайку выпустил. Говорит, его. А я на улице ее словил как бездомную.
Улыбка на лице у Дрона стала прямо-таки нежной.
- Слушай, - сказал он крайне миролюбиво и ласково прикоснулся к руке Мирона. - За чем же остановка? Надо ли ссориться по пустякам? Ты возьми да и выпусти эту лайку, раз она пацану принадлежит.
- Дык я, - вдруг поперхнулся одноглазый, - дык я зараз ключ от замка туточки потерял, пока с пацанами ругался. - Он пробормотал еще несколько слов и, чувствуя всю несостоятельность своего вранья, умолк.
- Гм... - вздохнул Дрон. - Верю тебе. И такое бывает... бывает, что и медведь летает. Дай-ка я погляжу замок, может быть, мы и без ключа управимся.
Не дожидаясь согласия, Дрон обошел клетку сбоку, остановился у закрытой двери, недоуменно пожимая плечами, и вдруг накрыл замок огромной своей лапищей. Хлипкий замок жалобно пискнул и, весь погнутый, упал в уличный песок.
- Гм... - протянул Дрон, - а я и не думал, что это так просто. Трухлявый он у тебя вроде был.
Одноглазый Мирон, белый от гнева, не проронил ни одного звука.
Ваня же Дронов рывком распахнул дверь и весело закричал:
- А ну, отродье собачье, зараз разбегайтесь во все стороны, пока я добрый. Зараз этому дяде валерьянка потребна, а у меня один скипидар в наличии.
Полканы и барбосы с радостным визгом повыпрыгивали из клетки и разбежались во все стороны. Одна только Мурза вышла в какой-то растерянности и, задрав острую мордочку, долго осматривалась. Увидев Веньку, повизгивая, бросилась к нему, лизнула руку. Желтые глаза ее подернулись слезой, как показалось Веньке. Да и на самом деле, видно, растрогалась спасенная, радуясь своей удачно сложившейся собачьей судьбине.
- Вишь, как она тебя благодарит, - пробасил Дрон. - Все зверина бедная поняла. - И, неожиданно посуровев, добавил: - А теперь бери свою псину, парень, и марш домой. Да чтоб на улицу одну больше не выпускал.
Увидев входившего в калитку в сопровождении белой лайки с желтыми подпалинами Веньку, Надежда Яковлевна всплеснула руками:
- Боже мой! Да откуда ты этого зверя привел? Ее же хозяин, наверное, ищет.
Венька отрицательно покачал головой:
- Что ты, мама, у Мурзы хозяина нет. Она коммунальная собака. Кто хочет, тот и кормит, куда пустят, там и ночует. А сегодня ее как бездомную уничтожить хотели. Если бы дядя Дрон не заступился, жизни лишили бы. А за что? Какие злые бывают люди, вроде этого одноглазого Мирона. - И Венька подробно рассказал о том, что произошло на Аксайской улице, как хотели увезти Мурзу и как дружно защитили ее ребята, а добродушный Дрон поставил победную точку своим вмешательством в их сражение. Мать выслушала его не перебивая и ласково потрепала по щеке.
- Ты еще несмышленыш, Веня, - сказала она задумчиво, - а мир такой сложный, что не всегда и взрослые в состоянии его понять. Вот ты защищал собаку и считал, что был полиостью прав. А эти люди, которые поймали Мурзу на улице, тоже считали, что они правы, потому что выполняли свой долг. Ведь бездомные бродячие псы иногда опасны, потому что становятся разносчиками болезней и заразы. Ты меня понял, сынок? Ведь и это правда.
- Понял, мама, - не сразу согласился Венька. - Значит, и у пас с дядей Дроном была правда, и у одноглазого Мирона тоже?
- В какой-то мере так, - смущенно согласилась Надежда Яковлевна.
- Мама, а разве две правды быть могут?
- Да видишь ли, - неожиданно запнулась Надежда Яковлевна, - на одно и то же событие можно ведь по-разному смотреть.
Венька вздохпул и, нахмурившись, покачал головой.
- Нет, мама, - сказал он решительно, - правда может быть только одна. Как в любой сказке. Или правда, или неправда. И во всем мире все, как один, правду должны считать правдой, а неправду неправдой.
Мать рассмеялась, карие глаза ее вспыхнули. Мальчику всегда казалось, что в такие минуты в эти глаза залетают веселые птички и делают их добрыми-добрыми.
- Не знаю, сынок, - озабоченно сказала она, - только мне кажется, что если бы так было, в мире стало бы скучно. Ты этого еще не поймешь, но там, где не спорят и не стремятся к лучшему, жизнь начинает закисать. Иди-ка ты лучше играть с собакой, мой маленький философ.
- Нет, мама, - повторил решительно Венька, - правда может быть одна.
В тот вечер отец пришел с работы очень поздно. Венька был разбужен голосами родителей. Отец и мать спорили. Как и всегда, когда бывал не в духе, Александр Сергеевич говорил предельно тихим голосом. Он давно выработал тактику утверждать таким образом свое превосходство над собеседником, давая понять оппоненту, что его точка зрения очевидна и ни в каких пространных аргументах не нуждается. Однако Надежда Яковлевна была вовсе не тем собеседником, который складывал оружие от вкрадчивого голоса. Она лишь больше распалялась, доказывая свое. Венька прислушался.
- Какая ты чудачка, Надюшенька, если так упрямо отстаиваешь эту свою точку зрения, - говорил отец. - По-твоему, улица облагораживает ребенка и готовит его к выполнению обязанностей гражданина в обществе? Какое потрясающее заблуждение! Улица - это рассадник дурных привычек, хулиганства, нигилистического отношения к взрослым. Улица - это тлетворное влияние на формирование характера. Да-да! И не случайно в старые времена первое, что делали обеспеченные люди, так это ограждали своих детей от уличного влияния. Ну скажи на милость, Надюша, чем ты восхищаешься? Тем, что наш лоботряс во главе оравы ему подобпых пытался забросать камнями человека, исполняющего служебный долг?
- Негодяя, Саша! - пылко перебила мать. - Негодяя попытавшегося растоптать чувство сострадания ребенка к беззащитному невинному животному.
Александр Сергеевич вдруг запнулся, и его лысина покрылась мелкими каплями пота.
- Не знаю, не знаю, - проворчал он, - но ты пойми, что получается. Сегодня, не согласившись с действиями взрослого, он запустит в него камнем, а года через три-четыре в такой же ситуации пырнет кого-нибудь ножом. Вот что такое твоя улица.
- Неправда! - резко воскликнула мать, подавив горький вздох. - Сегодня наш мальчик проявил смелость и заслуживает одобрения. Эх, если бы жив был твой брат Павел!.. Вот бы в ком я нашла сейчас союзника. Он бы меня понял. Ведь только так, а пе иначе, в столкновениях с опасностью воспитываются и благородство, и мужество. И наш Веия сегодня меня порадовал. Смелость в нем подлинная проснулась, Саша, а ты ворчишь, вместо того чтобы сказать доброе слово.
Александр Сергеевич расстегнул косой ворот серой сатиновой рубашки и, желая поскорее уклониться от спора, буркнул:
- Как зовут собаку?
- Мурзой.
- Это что еще за имя? Татарское, что ли?
- И вовсе не татарское, - закричал из-под одеяла Венька, - Мурза - это по-настоящему Мурзилка. Вот как.
- А ты не вмешивайся, когда мы с матерью разговор ведем! - сердито выкрикнул Александр Сергеевич. - Ишь моду завел! - Но тут же потеплевшим голосом прибавил: - Повежливее себя веди, если хочешь, чтобы мы эту собаку оставили.
- Оставь, папа!.. - попросил Венька. - Собака - друг человека, неужели ты ее прогонишь? Мурза хорошая, добрая и настоящая сибирская лайка. А из того двора ее все гонят.
- Так и быть, если хулиганить перестанешь, - решил отец.
И Мурза осталась жить на широком подворье Якушевых.
Утром прошел по-летнему короткий проливной дождь, а потом пригрело солнце, и земля на знаменитом бугре, где собирались мальчишки со всей окраины, снова затвердела. Венька Якушев, накормив Мурзу остатками вчерашнего холодного борща, шмыгнул в калитку. У врытого в землю столбика сидели почти все ребята, участвовавшие во вчерашней баталии, и, ожесточенно жестикулируя, пересказывали друг другу подробности спасения лайки. Веньку они засыпали градом вопросов:
- Дома тебя не били?
- А Мурзу оставить пахан разрешил?
- Какой такой пахан? - удивился Венька.
- Чудак, - осведомленно пояснил Петька Орлов. - Все-таки ты интеллигенция. В тюрьме пахан - это самый главный среди жуликов. Понял? А дома у тебя кто самый главный? Отец, потому что он деньги приносит. Вот и надо его паханом называть.
Рыжий Жорка, с уважением поглядев на соседа, покачал головой:
- А здорово ты в этого дылду одноглазого каменюкой запустил!..
- А что, ребята, мы его бы и сами одолели, если бы Дрон не подоспел, - шмыгнув носом, заявил Петька Орлов. А Олег Лукьянченко неожиданно спросил:
- Венька, а почему ты пам про своего дядю Павла никогда не расскажешь? Это правда, что у него два ордена. Красного Знамени было?
- Правда, ребята, - смущенно подтвердил Венька, - дядя Павел даже у самого Фрунзе служил, когда красные войска на Перекопе стояли.
Петька Орлов, что-то царапавший на земле железным прутиком, уставившись сонными глазами на Веньку, полюбопытствовал:
- А это правда, что тот гад Прокопенко, который твоего дядю Павла приказал убить, перед расстрелом на коленях ползал, пощады просил?
- Нет, - покачал головой Венька, - не так все было. Отец говорил, будто он слезинки не проронил, и все о том твердил, как Советскую власть ненавидит. Даже пена на губах вскипала. Плакал другой. Тот, что в дядю Павла стрелял. По земле ползал, за сапоги красноармейцев хватал. А Прокопенко - нет.
Венька вдруг задумался и всхлипнул. Убоявшись, что ребята его осудят, поспешно вытер слезы. Но ребята уважительно промолчали, один Жорка после долгой паузы сказал:
- Ну и гад же был этот Прокопенко! Откуда он только три ордена боевых взял? А врал про себя как! Я один раз с ребятами по городу за ним бегал, когда он рассказывал, будто сам Буденный ему серебряный наган подарил.
- Серебряных наганов не бывает, - возразил Петька Орлов.
- Ну, может, не серебряный, а с серебряной дощечкой, - согласился Смешливый. - Не в том дело. Главное, что он был подлый гад. Скажи, Венька, а дядя Павел часто к вам приезжал?
- Часто.
- А чего же ты нам его ни разу не показал?
- Отец запретил мне и Гришке об этом говорить на улице, - не поднимая головы, ответил Венька.
- Ребята, айда на речку, - позвал Жорка Смешливый, чтобы хоть как-нибудь завершить грустный разговор. Все дружно повскакали и сбежали с крутого бугра на железнодорожную насыпь, откуда до аксайской воды было рукой подать.
Желтыми песчаными языками врезались в речку два мыса, облепленные купальщиками. Один именовался "дев-чачкой", другой "ребячкой". Едва успели раздеться, как к ним подошел незнакомый мальчишка лет тринадцати с наколкой на правой руке. Зеленые нагловатые глаза почемуто сразу задержались на Веньке:
- Ты... шкет, давай драться.
По законам окраины отказываться от вызова не полагалось, но, желая уберечь от поражения Веньку, Петька Орлов зло сказал:
- Совесть имей, он же на полголовы тебя ниже и па четыре года младше.
- А я что, - смутился парень, - я же с ним не на две руки буду. Я его на одну левую вызываю.
- А-а, - протянул Петька, не находя веских аргументов, чтобы расстроить их поединок. - Тогда другое дело.
- Ну давай! - выкрикнул парень, и они закружились. Сцепив зубы, Венька кочетом наскакивал на противника. Незнакомый парень твердо держал слово - дрался одной левой, пряча правую за спиной. Видимо, этот неравный бой и потешная петушиная Венькина поза доставляли ему удовольствие, как и то, что несколько совсем несильных ударов противника попали ему в локоть. Взъерошенная голова Веньки и его злостью поблескивающие глазенки лишь усиливали веселое настроение парня.
- Давай, давай, - подзуживал он. Один раз Венька изловчился, подпрыгнул и тычком ударил парня в нос, да по-видимому, настолько больно, что тот замотал головой и свирепо заорал:
- Ах, ты так? Ну держись!..
И Венька моментально получил такой удар в скулу, что искры заплясали у него перед глазами.
- Хватит, что ль? - ухмыльнулся парень.
- Нет, давай еще! - азартно закричал Венька. - Чего отступаешь? Трусишь?
Но парень опустил руки и беззлобно заявил:
- Нет, я больше с тобой связываться не стану, шкет.
Петька Орлов и Смешливый отвели его в сторону и стали о чем-то шептаться. Парень слушал, огорченно покачивая головой. Потом опять приблизился к Веньке, тихо спросил:
- А это правда, что ты племянник Павла Сергеевича Якушева?
- Правда, - неохотно буркнул Венька.
Незнакомый парень подставил загорелую щеку:
- Бей! Я сопротивляться нисколечки не стану.
- Не буду, - нахмурился Венька, - это же не по правилам.
Но парень, не слушая, продолжал:
- Бей сколько хочешь. Если бы я знал, что ты племянник Якушева, пальцем бы не тронул. Любому обидчику шею бы свернул. У меня, пацан, отец тоже на Перекопе воевал, и пустой рукав вместо правой руки домой принес. Он много про твоего дядю рассказывал. Даже на одной фотографии с ним вместе. Клянусь богом! Меня Сашкой Климовым зовут. Глядишь, когда и пригожусь тебе. - Он подошел, деловито ощупал покрасневшую скулу, кратко изрек: - Надувается. Плохо. Синяк будет. От отца или матери попадет.
- А может, еще пройдет? - с надеждой спросил Венька.
Климов порылся в кармане, вытащил оттуда тяжелый красно-медный пятак, деловито протянул:
- Бери, прикладывай. Вдруг поможет? Единственное средство.
Но как ни старался Венька, а шишак от удара все надувался и надувался. Он вздохнул и поплелся домой, заранее предвидя сцену, которая его ожидает. Шагавшего рядом Жорку Смешливого в последней безрадостной надежде спросил:
- Каеш, а Каеш... синяк проходить не стал?
Жорка осмотрел его с педантичностью профессионального фельдшера и, безутешно покачав головой, даже не ответил на вопрос своего друга.
- Понимаешь, матери я не боюсь, - все поняв по его сострадательному вздоху, вымолвил Венька, - а вот отец...
- Что отец? - спросил Смешливый. - Он же у тебя добрый. Неужели бить станет?
- Нет. Он меня никогда не бьет. А вот причитать как начнет, так уж лучше бы побил. "Ах, Венечка, Венечка, у тебя тут кровь, - передразнил он отца. - Еще бы на сантиметр выше тебя ударили, и без глаза бы остался, циклопом на всю жизнь. Давай поскорее тебе йодом смажем". А йод, Жорка, ты знаешь, как щиплет...
- Зачем же на синяк йод? - рассудительно осведомился Смешливый. - Йод на открытую рану лить надо.
- В том-то и дело, - вздохнул Венька. - Но мой отец считает себя великим лекарем. У него в коридорчике стоит целая тумбочка с пузырьками и мазями, ватой и бинтами. Чуть простудился: "Венечка, пей горячее молоко, а я тебе туда две капли йода из пипетки капну". На гвоздь напоролся - тоже йод да ихтиолку на царапину.
- А если живот схватит и на горшок потянет? Тогда тоже йод?
- Тоже, - согласился Венька, и мальчишки расхохотались. - Эх, если бы меня мать одна встретила, - мечтательно заключил он, издали завидев крышу своего дома. Но и этой его надежде не суждено было сбыться. Оказалось, что отец по каким-то причинам возвратился из техникума очень рано.
- Где это ты запропал? - окликнул он сына, не выходя из кабинета. - Мой, пожалуйста, руки - и марш за стол. Мама уже суп разливает.
Венька стремглав бросился к умывальнику, а затем на кухню, где они обычно обедали, когда не было гостей. Тарелки с дымящимся фасолевым супом уже стояли на клеенке. Вошла мать, неся в руках блюдо с котлетами и жареным картофелем, весело осведомилась:
- Проголодался небось, Венечка. Твоя Мурза оказалась великолепной собакой. Уж такая ласковая да понятливая. Отец считает, что ее по ночам надо сажать на цепь, чтобы злее была.
Венька предусмотрительно сел в тесный угол под единственную икону, с которой безмолвно смотрел бледно-восковой апостол Павел. Ее присутствие в семье неверующих Якушевых объяснялось очень просто. Икона эта когда-то принадлежала матери Александра Сергеевича Наталье Саввишне и осталась как память.
Все были голодны, и ложки очень быстро застучали по дну тарелок. Говорили о всяких пустяках. У отца проштрафился какой-то студент, и тому был поставлен неуд, мать сокрушалась, что зря отвела во дворе целую грядку под арбузы и, судя по всему, урожая не будет. "Кажется, ничего не заметили,- обрадованно подумал Веня.- После обеда сразу лягу в постель, скажу, подремать захотелось. А к вечеру синяк и пройдет".
- Мама,- просительно заговорил он,- можно, я кисель с вами кушать не буду? Я уже супом и котлетами объелся.
- Можно,- спокойно ответила мать, а отец как-то внимательно посмотрел на него и прищурился.
- Можно, сынок,- согласился он.- Но прежде чем покинуть весьма скучное общество своих родителей, не сумеешь ли ты ответить на один вопрос?
- На какой, папа?-насторожился Венька.
- Поведай нам, отчего в этой комнате стало столь светло.
- Это оттого, что за окнами лето.
- А еще почему?
- Не знаю,- заерзал на стуле Венька.- От солнца, наверное.
- А по-моему, не столько от солнца, сколько от фонаря, который в данное время так ярко освещает паше жилище.
- От фонаря... Шутишь, что ли? Про какой фонарь ты говоришь?
- А про тот, сынок, - ехидно улыбнулся отец, - который так уютно устроился под твоим правым оком. Его еще синяком именуют.
- Какой синяк?- запротестовал Венька, понимая, что минута расправы наступила. Отец и мать были сейчас похожи на двух прокуроров, которым принесли неопровержимое обвинительное заключение. Но всему наперекор сын перешел в яростную атаку:
- Какой еще синяк ты выдумал? Нет у меня никакого синяка. Это тебе показалось.
- Показалось?-суховато переспросил Александр Сергеевич.- Мать, принеси ему зеркало. Да не какое попало, а наше самое лучшее, фамильное, в оправе из слоновой кости. Наш наследник давно уже себя не лицезрел.
Надежда Яковлевна с удовольствием выполнила просьбу. Тонкие ее губы так и вздрагивали от сдерживаемого смеха:
- На, Венечка, полюбуйся.
Сын взял зеркало в руки: оттуда на него глянул глаз, наполовину заплывший от фиолетового синяка.
- Странно, - пробормотал Венька, - а я и не заметил. Откуда же он?
- Вот и я хотел полюбопытствовать, сынок, кто это тебя так вздул, - уже без улыбки проговорил отец. - Шутка ли сказать, ударил бы тебя этот матерый хулиган на два сантиметра правее .- и мог бы оставить навсегда без глаза.
- Меня никто не бил, ты выдумываешь, - заверещал Венька, - это меня калиткой стукнуло.
- Ка-лит-кой? - по слогам произнес отец и усмешливо посмотрел на мать.
- Да-да, калиткой! Мы стояли с Олегом у его ворот, подул ветер, и калитка бац меня по лицу... Вот и все.
- Здорово, Венька, - захохотал Александр Сергеевич.- Да ты, оказывается, врешь поскладнее барона Мюнхаузена, про которого я тебе книжку читал. За окном такая жара, что ни один листок не колышется. Олегова же калитка весит не менее двух пудов. Как же она могла тебя ударить в такую безветренную погоду? Это что-то новое в науке.
- А вот и ударила! - исчерпав все аргументы, выкрикнул Венька и стремительно выбежал из комнаты, считая себя смертельно обиженным.
Много лет спустя, вспоминая об этом эпизоде, он подумал, как иногда важно отстаивать свою точку зрения. И, вероятно, как огромное человеческое счастье, отпущенное ему на долю судьбой, оценивал он способность в самые последние мгновения подавлять в себе опасные колебания, а если говорить точнее, то страх, и ощущать, как ему на смену приходит боевой азарт и презрение к опасности, которых не счесть в боевом полете. И, возвращаясь живым и невредимым на свой аэродром, перебирая в памяти все подробности того, что было в бою, беспокойно ворочаясь ночью на жестких нарах фронтовой землянки, Вениамин Якушев вспоминал родную новочеркасскую окраину и мысленно обращался к своим родителям: "Милые мои старички! Сколько вы сделали для меня, родные! Как тяжело вам давались мои первые шаги по земле в дни голода и невзгод, как согревали вы меня своим дыханием в колыбели и радовались моему первому слову, с какой самоотверженностью выхаживали от брюшного тифа, когда жизнь пыталась навсегда покинуть мое слабеющее тело.
Есть разные единицы измерения подвига. Одна из них - мужество при спасении утопающего или доброта, при которой ты способен поделиться с ближним последней коркой хлеба, другая - способность отстоять и поставить на ноги человека, увидевшего белый свет после своего рождения в дни голода и разрухи, воспитать его добрым и справедливым ко всему окружающему, способным отличать правду от лжи, ясность души от скрытого в ней лицемерия, приучить к труду во имя счастья себе подобных. И лишь в одном вы были неправы, утверждая, что влияние улицы - тлетворное. Нет, уберечь наша Аксайская улица от дурного могла, потому что и она пробуждала в нас, мальчишках, чувство локтя и дружбы, непримиримость к противникам и осуждала осторожность, к которой вы пытались меня приучить, милые мои старички".
Так думал Вениамин Якушев в бессонные фронтовые ночи накануне очередного летного дня, с тоской вспоминая родную окраину и друзей-одногодков, разлетевшихся но всем фронтам после 22 июня в памятном сорок первом году, который черной тучей накрыл тогда нашу землю.
В отличие от брата Гришатки, обожавшего истории про пиратов и свободолюбивых индейцев, больше всего любил Венька вечерние отцовские рассказы о донском атамане Матвее Ивановиче Платове. Он почти наизусть знал все, о чем по вечерам говорил им Александр Сергеевич, и, если отец не был последователен при изложении какого-нибудь сражения или эпизода, сын бесцеремонно перебивал своего родителя:
- Нет, папа. В Петропавловскую крепость Павел Первый заточил Платова еще до похода донских казаков в Индию.
Либо:
- Тут ты ошибся. Платов со своими войсками в Новочеркасск из Парижа не в мае, а осенью пришел.
Александр Сергеевич в такие минуты ласково поглядывал на супругу:
- Смотри, Наденька, в нашей семье растет Иловайский.
Но никто не подозревал, какие бурные фантазии возникали в пылком воображении мальчика в те часы, когда в доме Якушевых гасла последняя керосиновая лампа. Лежа с закрытыми глазами на своей жестковатой кровати, Венька отчетливо видел скачущих всадников, их кивера и высоко поднятые сабли, дымки орудий, расплывающиеся над бородинским полем, карету, в которой убегал из Москвы потрясенный Бонапарт. Тем более никто не мог предположить, что теперь каждое событие в своей жизни мальчик связывает с Платовым.
Однажды в корзине, набитой книгами, Венька нашел прейскурант цен на музыкальные инструменты. Он равнодушно перелистал страницы с красочно изображенными на них гитарами, мандолинами и балалайками и уже готовился отложить его в сторону, как вдруг одна из картинок привлекла его внимание. На ней был запечатлен старик в белой чалме. Он играл на серебряной дудочке, а у ног его извивались три очкастые кобры.
- Мама, кто это такой? - спросил Венька у Надежды Яковлевны.
Мать всмотрелась в рисунок.
- Это индийский заклинатель ядовитых змей, - сказала она.
- А почему же змеи его не кусают?
- А ты видишь - он им играет?
- На этой вот дудочке?
- Это не дудочка, Веня, а флейта, тончайший музыкальный инструмент.
- И они его слушают?
- Они до того зачарованы его музыкой, что не могут даже двинуться с места. Мне сейчас некогда. Придет отец, расспроси его.
Венька с трудом дождался отца.
Тот очень долго, как показалось Вене, плескался над тазом, смывая с лица пыль и усталость, однако пребывал в хорошем расположении духа.
- Геодезическую практику завершил, Наденька, - улыбнулся он матери, - еще с недельку потрудиться осталось - и два месяца отпуска.
- Папа, - перебил Венька, - ты мне про этого старичка расскажи. - И протянул ему прейскурант. Отец близоруко взглянул на текст.
- О! - воскликнул он весело. - А ведь в его руках флейта.
- А флейта правда хороший инструмент? Легкое облачко печали тронуло лицо отца:
- Ты знаешь, когда в опере дают "Ивана Сусанина", то перед тем, как подняться занавесу, оркестр исполняет увертюру. И боже мой, какая это увертюра, какие великолепные партии у скрипок, виолончели... И какой нежной становится музыка великого Глинки, когда в нее вплетаются флейты. Впрочем, если она в талантливых руках, флейту и одну слушать можно. Хочешь, я расскажу тебе маленькую историю? - Отец вытер руки розовым полотенцем и, сев на табуретку, разложил его на своих коленях. - Один древний город, разоренный врагами, неожиданно подвергся нашествию голодных крыс. Крысы ворвались в него через главные ворота, загрызли стражников и широким потоком хлынули в город. Даже на вторые этажи домов забирались по лестницам. Все живое на своем пути уничтожали. Во дворце ужасный переполох. Бледный от страха царь собрал свою свиту и сказал придворным: "Что будем делать? Мы обречены на гибель. Кто спасет нашу страну, тому пожалую самую высокую награду". В зале воцарилась гробовая тишина. Молчали мудрецы, знатные придворные, и самые храбрые воины в том числе. Да ведь и что мог сделать любой отважный воип со щитом и мечом своим с миллионами крыс? Убил бы тыщу, а остальные все равно его загрызли бы. И вдруг из самого заднего ряда выступил старичок аптекарь в белой чалме с длинной седой бородой и, волнуясь, сказал: "О великий государь! Я могу спасти наше отечество". "Ты? - удивился царь. - Да если ты это сделаешь, я велю наградить тебя десятью бочонками золота. Но если солжешь, прикажу бросить в темный подвал, чтобы крысы съели тебя самого". Старичок покачал головой и спокойно ответил: "Мне не надо твоего золота, государь. Подари мне навсегда ту серебряную флейту, что висит в твоем тронном зале на стене, и я отправлюсь спасать наш народ". Старичок получил флейту и покинул дворец. Крысы немедленно окружили его со всех сторон, готовясь загрызть. Но вдруг заиграла серебряная флейта, и они словно окаменели. А старичок спокойно направился сквозь их полки к городским воротам, вышел из них, продолжая играть, и увел из пострадавшего города всю крысиную армию. Долго он вел их по пустыне под палящим солнцем, пока не приблизился к подножию высокой-высокой горы. Вздохнул от усталости и стал подниматься, а крысы - за ним под звуки флейты. Но на большой высоте они стали тысячами отставать...
- Это отчего же, папа? - с загоревшимися глазами спросил Венька.
- А оттого, что они без кислорода жить не могут, сынок. И когда старик дошел до самой вершины, продолжая все время играть на флейте, за ним уже ни одна крыса не тащилась.
- А старик? - с затаенным дыханием спросил Венька. Александр Сергеевич глубоко вздохнул.
- А старик тоже смертельно устал. Он сел на большой серый камень у самой вершины и умер. И на лице его осталась добрая улыбка. Это от радости, что спас он и город свой, и народ. Да что это ты носом захлюпал, сынок? Никак, зареветь собираешься?
- Мне дедушку жалко, - всхлипнул Венька. - Он хороший. - И, рукавом обтерев лицо, прибавил: - А я хочу стать заклинателем змей, купи мне флейту!..
- Вон ты куда клонишь, - засмеялся Александр Сергеевич, - а я-то не учуял сразу. Дай-ка сюда прейскурант.
Вооружившись очками, отец раскрыл прейскурант и прочел: "Стоимость флейты с пересылкой тридцать пять руб.". По тем временам это были немалые деньги, и он тяжело вздохнул, как человек, остановившийся перед неожиданным препятствием. Покачав головой, вымолвил:
- Да для чего она тебе, Венечка, эта флейта? Ты же на ней все равно играть не научишься. Слуха у тебя нет, мой милый...
- Научусь, - убежденно возразил Венька. - Увидишь еще, как стану играть!.. Сам потом радоваться будешь. Ты же Гришке полное собрание Фенимора Купера купил, а мне хотя бы одну флейту... Никаких игрушек больше не прошу.
- Хорошо, я подумаю, - пообещал отец.
- Вот и спасибо! - возликовал сын. - Я теперь буду тебя каждый день встречать, когда ты из техникума возвращаешься.
Однако проходили недели, Венька добросовестно встречал отца, но отходил от него разочарованным, едва сдерживая слезы. Флейта в доме так и не появилась. И вот тут-то пришел на помощь атаман Платов. Никогда не поклонявшийся никаким богам, Венька попросту стал на него молиться. Забившись в высокую лебеду, что росла в самом конце двора, закрыв глаза, он призывал его к себе на помощь. И странное дело: Платов выплывал из красной пены тумана на вороном жеребце с высоко поднятой рукой, гордо сжимающей рукоять поблескивающей на солнце сабли. Платов был точно такой же, как на большой картине, вырезанной из журнала "Нива", где он гарцевал среди пушечных разрывов на своем коне. Дыбился гривастый конь, молнией сверкала сабля, словно свеча, стоял над его кивером обрамленный бахромой султанчик. Чуть накренившись в седле, Платов, озорно подмигивая левым глазом, спрашивал у Веньки: "Ну что? Покупать флейту не хочет?" "Не хочет, Матвей Иванович", - плаксиво отвечал Венька. "А ты не хнычь!-лихо проводя рукой по жесткой щетке усов, восклицал донской атаман. - Или забыл, что ты правнук моего любимого урядника Якушева? Мы с ним города сдавали и не плакали, а потом Бонапарта от Москвы так погнали, что у него лишь пятки засверкали. И в Париж с улыбками и песнями входили! Наберись терпения и жди". "Я буду ждать, Матвей Иванович, - шептал мальчик, - только отцу моему скажите, чтобы купил". Но Платов молчал. Его изображение размывалось и исчезало. Открыв глаза, Венька опять видел покрытые пыльцой стебли и листья лебеды, вдыхал ее необычный приторный запах и уходил домой.
Проходили дни, но отец так и не приносил флейту. Венька его уже ни о чем не спрашивал. Побывав как-то на любимом бугре, при большом скоплении ребят он пересказал историю о том, как царский аптекарь с помощью флейты увел из древнего города миллионы напавших на царство крыс. Мальчишки слушали как завороженные. И тут Веньку будто прорвало. Он стал так длинно хвастать, что ему вот-вот подарят флейту, что Жорка Смешливый не выдержал:
- Подумаешь, зафорсил! Да я своему пахану скажу, он мне эту флейту раньше твоего купит. Вот увидишь, завтра же здесь, на бугре, дудеть на ней буду.
Однако на следующий день Жорка пришел на бугор хмурый и на вопрос дружка, просил ли он своего отца купить флейту, мрачно ответил:
- Да, просил.
- И что же он ответил?
- Сказал: "А ремня не хочешь?"
Шли дни. Иногда Венька опять убегал в самую даль двора, ложился в заросли травы, сквозь которые голубело небо, и когда от этой солнечной голубизны глазам становилось больно, закрывал их в надежде, что снова увидит Платова и поговорит с ним. И однажды это опять случилось. Прижмурив глаза, опаленные солнцем и красками высокого неба, мальчик увидел скакавшего на коне знакомого всадника.
- Матвей Иванович, - прошептал он громко, - где же флейта?
Платов весело улыбнулся, хотел что-то сказать, но так и не смог. И конь и всадник мгновенно исчезли. Но Венька все понял. "Это он добрый знак мне подал. Значит, отец сегодня обязательно купит..."
Он прибежал к матери, сидевшей в зале за стрекочущей швейной машинкой "Зингер", и суматошно закричал:
- Мама, когда батя сегодня приходит?
- Оглушил, - остановила его мать и посмотрела на часы, по которым Венька, несмотря на ее отчаянные усилия, так и не научился узнавать время.
- Через полчасика.
- А это скоро или не очень?
- Скоро. А зачем он тебе так экстренно?
- Он мне флейту сегодня припесет! - воскликнул Венька и, показав ей язык, выскочил через парадное на улицу.
Закрыв за собой дверь парадного, он опустился на ноздреватый порог из камня-ракушечника и посмотрел вдаль. Последний квартал Барочной улицы перед ее скрещением с Аксайской был очень крутым. Венька часто встречал Александра Сергеевича, сидя на пороге парадного. Когда крупная фигура отца появлялась в самом начале спуска и, размахивая руками, тот останавливался, чтобы перевести дыхание, окрестные ребятишки кричали" друг другу:
- Тише, тише, паровоз к станции подходит!..
Так они прозвали отца за его шумное астматическое дыхание и способность совершенно внезапно для окружающих захлебываться долгим кашлем. Венька бросался отцу навстречу, успевая кинуть по пути в кого-нибудь из обидчиков камень.
Сегодня долго ждать ему не пришлось. Плечистая сутуловатая фигура отца вскоре появилась наверху. На этот раз Александр Сергеевич не остановился, чтобы перевести дыхание, а еще быстрее двинулся под горку. Сжигаемый ожиданием мальчик бросился ему навстречу.
- Ты чего это мчишься, как метеор? - недоуменно спросил Александр Сергеевич, когда сын остановился в трех шагах от него.
- Тебя встречать, - весело выпалил Венька. - Ты же флейту мне купил сегодня.
- Откуда знаешь, негодник? - растерянным голосом спросил отец, прижимая к белому летнему пиджаку перевязанный шпагатом узелок. - А вот и не купил.
- Ну да, - усомнился Венька, - а сверток?
- Это я ноты новые приобрел, чтобы тебя своим пением по утрам оглушать, - ухмыльнулся отец.
- А вот и обманываешь! - вскричал сын. - Давай я развяжу узелок и выведу тебя на ясную воду.
- Люди говорят "на чистую", - поправил Александр Сергеевич.
- На ясную лучше, - настаивал Венька, и они зашагали к дому.
Когда флейта была собрана, мальчик дрожащими руками взял ее у отца, и глаза его заблестели от радости.
- Ну, принимай подарок, будущий заклинатель змей, - торжественно объявил отец.
- А как в нее дуть, папа? - сконфуженно спросил мальчик.
Отец показал. Венька взял флейту в руки, припал к ней губами и после долгих усилий извлек длинный нечленораздельный звук, Александр Сергеевич поморщился, как от зубной боли.
- Боже мой! Да не так же, не так. Если ты дальше этого звука не продвинешься, то ни змей заклинать не научишься, ни крыс в горы не уведешь, как тот старичок аптекарь.
Отец взял несколько высоких и низких звуков, пробежал крупными пальцами по флейте, то зажимая на ней одни отверстия, то открывая другие, и она неожиданно заиграла бодрую, всем им так хорошо известную маршевую песню: "Мы -кузнецы, и дух наш молод..."
Матъ, с руками, выпачканными в муке, примчалась с кухни, и ямочки засияли на ее лице;
- Венечка, да у тебя же так хорошо все получается...
- Пока что у одного меня, - мрачно поправил ее отец. - Ну посмотри, как это делается, ведь это же так просто.
Венька присмотрелся к движениям отцовых пальцев и, вновь получив в свои руки флейту, воспроизвел их в том же порядке.
- Ура! - закричал Александр Сергеевич. - Посмотри, Наденька, он уже делает первые успехи. Подожди немного, и в нашем сыне проснется музыкальный слух, как великая русская силушка в Илье Муромце, который, если верить былине, много лет сиднем просидел на печи.
Но радость отца была преждевременной. Музыкальный слух в Веньке так и не проснулся. Добросовестно зазубрив, как надо играть "Мы - кузнецы, и дух наш молод", дальше он не пошел. Слова "куем мы счастия ключи" оказались уже за гранью его возможностей. На другой день рано утром отец отправился в техникум, а Венька вышел во двор и во всю силу своих легких стал выдувать из флейты то единственное, что ему удавалось. То в одном, то в другом конце двора то и дело раздавалась одна и та же мелодия.
- Смотри, Венечка, - крикнула ему мать, хлопотавшая возле летней печки, - на улицу с флейтой не выходи! Инструмент дорогой, а испортить его так легко.
Однако не прошло и десяти минут, как у калитки по ту сторону забора собрались все его аксайские дружки, и он услышал вкрадчивый голос Петьки Орлова:
- Вень, а Вень, выйди на улицу, музыку свою покажи. Очень всем охота на флейту твою посмотреть.
Он отрицательно замотал головой:
- Нельзя, уж очень вещь дорогая, а вы не знаете, как с ней обращаться, и сломать можете, - заявил он категорически.
- Да мы не сломаем, - жалобно протянул Олег, - выдь.
- Нельзя, - насупившись, повторил Якушев.
Тогда за забором поднялось несколько кулаков, и он услыхал сердитый выкрик Кольки Карпова:
- Ну, подожди, флитригон проклятый. Вот только выйди за порог... Мы твою дудку о голову твою разобьем!..
Веньке стало не по себе оттого, что среди воинственно поднятых кулаков был и кулак его лучшего друга Жорки Смешливого. Он вздохнул и подумал о том, как плохо сделал, что не показал ребятам этот дорогой и непонятный музыкальный инструмент, к которому его душа успела так быстро охладеть.
В субботу Надежда Яковлевна ушла с обоими сыновьями на рынок, оставив в одиночестве мужа. Александр Сергеевич растворил все окна, и солнце, успевшее уже набрать силу и высоко подняться над займищем, наполнило комнаты веселым приветливым светом. Отложив в сторону мундштук с недокуренной астматоловой папиросой, Александр Сергеевич увлеченно вчитывался в пожелтевшие страницы "Одиссеи". Греческий текст легко ему давался в это утро, но к словарю все равно то и дело приходилось обращаться.
Увлеченный своим занятием, он не сразу обратил внимание на осторожный стук в дверь и прислушался лишь после того, как этот стук повторился несколько раз. "Кто бы это мог быть?" - настороженно подумал он. Нашарив босыми ногами шлепанцы, Якушев поспешил в коридор и, не открывая окованной толстым железным листом парадной двери, сиплым от одышки голосом спросил:
- Кто там?
- Отоприте, пожалуйста, Александр Сергеевич, - раздался неуверенный голос.
Днем на Аксайской почти никогда не грабили, поэтому хозяин дома без колебаний сбросил засов и цепочку, потянул на себя потускневшую от времени медную ручку и замер от удивления: на пороге в светлой рубашке, подпоясанной тонким кавказским ремешком со множеством сверкающих насечек, в белых, старательно отутюженных брюках стоял плечистый молодой парень. В огромной руке свернутая трубочкой тетрадка казалась безнадежно затерянной.
- Я к вам по делу, Александр Сергеевич, - смущенно пробасил неожиданный гость. - Вы меня наверняка не знаете.
- Да как же не знаю, - рассмеялся Якушев, вглядываясь в бровастое лицо и колечки спадающих на загорелый лоб волос. - Вас вся округа знает, а мои ребятишки души в вас не чают. Слышите, как во дворе их любимица Мурза лает? Это она благодаря вам у нас оказалась. А о других ваших подвигах я уж и не говорю.
- Да уж какие там подвиги...
- Ладно, ладно, Ваня Дронов, выкладывайте лучше, в чем дело.
Помощь ваша нужна, Александр Сергеевич. Задачка не решается.
На лбу у Якушева вспухли бугристые складки.
- Задачка? - пробормотал он удивленно. - Какая такая задачка, позвольте вас спросить?
- Да по алгебре, - помялся сосед. - У нас вечером консультация, а у меня не сходится. Я же на рабфак поступаю.
- Как так на рабфак? - отступил в глубь коридора Якушев. - Насколько мне известно, вы же кузнецом на заводе Фаслера трудитесь.
Дронов смутился еще более:
- Так ведь это же днем, а подготовительная группа на рабфаке занимается вечером. Вот как, стало быть.
- Ну-ну... тогда пройдемте, - пригласил его Александр Сергеевич.
В кабинете сразу стало тесно оттого, что туда вошел огромный плечистый Дронов. Он сел у заваленного книгами, чертежами, пузырьками с тушью и лекарствами письменного стола и застыл в положении, о каком говорят "словно аршин проглотил". Боясь прикоснуться к зеленому сукну, он неловко держал на коленях тяжелые руки и неотрывно смотрел на книжные полки.
- Книг-то сколько! - вырвалось неожиданно у него.- А вот на верхнем ряду корешки запыленные.
- Не дотягиваюсь, ростом не вышел, - как-то беззащитно усмехнулся Александр Сергеевич.- Да вот и астма препятствует.
Дронов увидел на уголке письменного стола скомканную серую суконную тряпочку, догадался, что именно ею вытирает Якушев пыль, и, не спрашивая разрешения, взял. Почти не поднимаясь на носках, он старательно протер корешки книг на самой верхней, недоступной хозяину полке. Александр Сергеевич с восхищением наблюдал за тем, как на его могучей спине двигаются лопатки - вот силища-то!
- Ладно, ладно, - проговорил он с напускной ворчливостью, - давайте-ка лучше сюда вашу тетрадь, молодой человек. - Он пробежал глазами колонку цифр и сердито покачал головой: - II еще хотите, чтобы получилось, достопочтенный юноша? Да у вас же тут ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет. Последовательность действий правильная, по вычисления никуда не годятся. Садитесь поближе и следите за моим карандашом.
Остро отточенный красно-синий карандаш беспощадно прошелся по колонке цифр, зачеркивая одни и вписывая другие. На своей щеке хозяин дома чувствовал горячее дыхание Вани Дронова.
- Вот так номер! Всего четыре поправки, и далее все пошло как по маслу. А я-то, лопух, недоглядел...
- Вы не лопух, Ваня, - поправил его Александр Сергеевич. - Вы попросту рассеянный субъект. А рассеянным в математике быть нельзя, ибо ничего не достигнете. Забудьте на время эту задачу, а я вам напишу новую. С ней и попробуйте справиться.
Он вырвал из начатой тетради листок, быстро написал на нем аналогичное уравнение, строговато изрек:
- А теперь садитесь-ка на мое место, милостивый государь, и решайте.
- Я - милостивый государь? - незлобиво проворчал Дронов. - Я пролетарий.
Александр Сергеевич снял пенсне и, рассматривая гостя близорукими глазами, от души расхохотался.
- Молодой человек, ну что поделаешь? Милостивый государь - это та форма обращения, к которой я привык с восьми лет, а слово "товарищ" употребляю лишь с двадцатого года. Так что извините за старомодность и решайте. Когда добьетесь результата, позовите. Я отлучусь в другую компату по своим хозяйским надобностям.
Через несколько минут из кабинета донесся веселый басок:
- Александр Сергеевич, а я решил.
- Ну-те-с, ну-те-с, - проговорил Якушев, входя в кабинет и отбирая у него листок. Лохматые брови педагога сошлись над переносьем, цепким взглядом пробежал он по цифрам и озадаченно воскликнул:
- За пять минут, и без единой ошибки?
- Выходит, так, - разулыбался Дронов,
- Просто не верится, - протянул Александр Сергеевич. - Тогда этот вот пример решите, чтобы развеять мои сомнения.
И Якушев набросал новые цифры. Ему почему-то вдруг остро захотелось, чтобы этот огромный парень с бычьей шеей и кулаками настоящего молотобойца сейчас бессильно опустил руки. Он было подумал, что так оно и случится, потому что увидел, как замерла в крупных пальцах у Дронова черная ручка с пером. С большим трудом Александр Сергеевич подавил в себе коварное желание спросить: "Ну что? Не получается?"
Неожиданно Дронов положил ручку на чернильный прибор и шумно вздохнул. Потом провел ладонью по вспотевшему крутому лбу.
- Фу, Александр Сергеевич, уморили, - сказал он, отдуваясь, и тут же облегченно воскликнул: - А все-таки я решил!
Якушев взял в руки листок, поднес к глазам и застыл в недоумении:
- Не может быть, милостивый государь! Ни одной ошибки. О! Вы очень сообразительный ученик.
- Значит, полагаете, мне можно на рабфак? - с надеждой спросил крутолобый парень.
- Не только можно, но попросту нужно! - вскричал Александр Сергеевич, у которого переходы от скептического настроения к настроению доброму совершались внезапно.
- Вот спасибочки за доброе слово! - обрадовался Дронов. Порывшись в глубоком своем кармане, он достал старательно разглаженную десятирублевку и положил на зеленое сукно стола.
- Это что? - осевшим голосом вдруг спросил Якушев, и мохнатые брови его ниже обычного нависли над глазами.
- Как что? - спокойно переспросил молодой кузнец.- Это за ваши труды, за то, что уверенность во мне пробудили, стало быть.
Александр Сергеевич побагровел. Еле справляясь с подступающим кашлем, рявкнул:
- Немедленно заберите свои деньги назад, иначе я попрошу вас покинуть мой дом!..
- Да я что, - растерянно глядя на него, зачастил Дронов,- я же хотел как лучше, а получилось... Но если вы требуете, я, конечно, повинуюсь... - И, скомкав десятирублевку, он сунул ее обратно в карман.
Якушеву стало жаль парня, и он произнес:
- Ладно, Ваня, будем считать, я погорячился. Простите. Давайте забудем эту маленькую размолвку. У вас подлинные способности, и, если когда-либо понадобится моя помощь по математике, всегда заходите. Вот вам моя рука.
Покидая дом Якушевых, Дронов почти лицом к лицу столкнулся с Надеждой Яковлевной и мальчиками, которые, весело подпрыгивая, тащили с базара тяжелые сумки. Торопясь, он не обратил на них никакого внимания и пропустил мимо ушей озадаченное Венькино восклицание:
- Мама, да ведь это же Дрон!..
- Странно, - удивленно промолвила Надежда Яковлевна и заторопилась к парадному.
- Саша, кто у нас был? - спросила она, войдя в кабинет.
Александр Сергеевич сидел за столом в серой расстегнутой косоворотке какой-то отрешенно-торжественный. Будто сквозь сон переспросил:
- А? Кто у нас был? Хороший человек. Первый богатырь на нашей окраине Ваня Дронов.
- Зачем? - с еще большим удивлением спросила супруга.
- У него алгебраическая задача не получалась, вот и пришел.
- Дрон и алгебра? - удивилась Надежда Яковлевна.- Что-то не верится.
Якушев пристально посмотрел на нее:
- А ты не смейся, Наденька. Именно так. Дрон и алгебра. У этого еще вчера малограмотного парня несомненные способности к математике. И знаешь, о чем я подумал?
Держа в руках цветастую косынку, в которой ходила на рынок, она задумчиво улыбнулась:
- О том, что каждая кухарка может научиться управлять государством, как любил говаривать наш погибший Павел?
- Примерно об этом, - согласился муж и стал протирать запотевшие стекла пенсне. - А если конкретнее, то о том, что нисколько не удивлюсь, если несколько лет спустя увижу его на посту директора большого завода, а то и наркома. Вот как оно пробивается, то новое, с которым я некогда не соглашался, - закончил он задумчиво.
Если бы в ту пору Венька Якушев вел дневник, сколько интересного смог бы сообщить о себе! Но он в ту пору не только не умел писать, но даже и алфавита не знал. Надежда Яковлевна упорно считала, что это в дошкольном возрасте совершенно не обязательно.
- Зачем превращать нормально развивающегося ребенка в вундеркинда? - говорила она мужу. - Все должно приходить к человеку своим естественным путем и развиваться в нем гармонично.
- Конечно, - ворчал Александр Сергеевич. - В вундеркинда превращать не надо - пусть в хулигана превращается.
Однако, немного поворчав, он махнул на все рукой.
Венькины сборы в первый класс вылились в целое событие. Мать гладила и чистила его одежду. Отец давал последние педагогические наставления, даже Гришатка, который уже ходил в седьмой класс, и тот принял во всем этом участие, старательно начистив желтым кремом ботинки меньшого брата. Странная перемена произошла в Гришатке за последнее время. Он повзрослел, на его лбу появилась глубокая продольная складка, над верхней губой наметились усики. Матери как-то удалось научиться быть ровной в своем отношении к обоим сыновьям.
Рано утром отец осмотрел приодетого Веньку, взглянул на ходики с кукушкой над циферблатом и весело продекламировал:
Дети, в школу собирайтесь, Петушок пропел давно, Поскорее одевайтесь, Смотрит солнышко в окно.
Веньку определили в бывшую петровскую гимназию, когда-то славившуюся чуть ли не на весь казачий край своими педагогами. Учились в ней в основном дети богатеньких казаков и чиновников. Много с тех пор уже изменилось, да и учительский состав изрядно поредел. Ушли старики, их заменили молодые педагоги.
Венька был одет в белую рубашку, длинные брюки в полоску и новые ботинки. Впервые самостоятельно шагая по Александровскому парку, он беспокойно поглядывал на пышные бантики шнурков, опасаясь, как бы они не развязались. Мало того что Венька не знал алфавита, не умел читать, писать и узнавать по часам время, он, ко всему этому, никак не мог научиться завязывать шнурки. Вместо аккуратных бантиков у него получались такие крепкие узлы, каким любой матрос мог бы позавидовать. Мать и та без помощи спицы не в силах была их распутать.
Сейчас бантики шнурков были в полном порядке, и он облегченно вздохнул. И все бы, наверное, вышло как нельзя лучше для первого исторического дня в его жизни, если бы не случай. Уже подходя к аллейке, по которой надо было сворачивать к школе, Венька увидел, как два нахохлившихся воробья свирепо вышагивают друг перед другом. "Сейчас будут драться", - сообразил он и, поставив на покрытую желтым гравием дорожку дерматиновый портфельчик, стал ожидать, как же развернутся события. Один воробей был потолще и пониже ростом, другой - худой и высокий. "Это Бонапарт, - сразу же окрестил Венька первого. - А кто второй? Да как же я не подумал! Второй конечно же Платов. А ну, Матвей Иванович, дай Бонапартишке в сопатку!" С яростным клекотом воробьи схлестнулись, и вдруг Венька увидел, что толстый долбит клювом худого в затылок. Мальчик забегал вокруг дерущихся воробьев и азартно закричал: "Бей Бонапартишку, Матвей Иванович! Бей!" Но к его ужасу "Матвей Иванович" лишь беспомощно трепыхал крылышками. И тогда Венька не выдержал. Схватив первый попавшийся под руку камень, он запустил им в "узурпатора". Воробьи разлетелись, и только теперь, увидев распластанный на земле портфельчик, Венька вспомнил про школу. "Да я же опоздал... - вздрогнул он испуганно. - И все из-за этого Бонапартишки, который Матвея Ивановича побил"...
И все-таки он успел. Площадь перед школой, на которой только что закончился торжественный митинг, была уже пустой, но Венька пристроился к отставшим и поднялся на второй этаж. Здесь он увидел две закрытых двери. Какая-то полная женщина в белом платье громко повторяла:
- Первоклассники, не шуметь. Направо класс для грамотных, первый "А", налево - для неграмотных, первый "Б".
Где правая, а где левая сторона, Венька отлично знал, потому что на Аксайской улице драться приходилось почти ежедневно, и он твердо уяснил, что правым кулаком бьют сильнее, чем левым. Сжав ручку портфеля, он ступил на площадку, и тут был остановлен женщиной в белом.
- Мальчик, тебе куда? В грамотный класс или в неграмотный?
Венька кулаком указал на одну из дверей.
- Значит, ты грамотный? - улыбнулась незнакомая женщина. - Ну, проходи.
Когда он открыл дверь, все тридцать учеников уже сидели на своих местах, и учительница вежливо сказала:
- Мальчик, назови имя и фамилию.
- Вениамин Якушев, - ответил невнятно Венька, смущенный от устремленных на него глаз.
- Веня, ты опоздал, - мягко продолжала учительница. - Поэтому садись на последнюю парту рядом с Борей Ковалевым. Дети, продолжаем урок. Напишите цифру один.
Стриженые затылки мальчишек и белые бантики девочек склонились над тетрадями. Перед Венькой тоже лежала раскрытая тетрадь, но он не знал, что с ней делать.
- Написали? - спросила учительница. - А теперь цифру два, - строговато сказала она и прибавила: - Веня Якушев, тем, кто сидит на задней парте, тоже надо писать. А теперь подряд пишите цифры: два, три, четыре, пять и так до десяти.
Понимая, что сидеть сложа руки нельзя, Венька обмакнул перо в чернильницу и нарисовал на тетрадном листе жучка, затем бабочку, потом черепаху. А когда учительница заставила весь класс писать буквы в алфавитном порядке, Якушеву рисовать так понравилось, что он решил изобразить картинку. На линованном листе появились два дерущихся воробья, один из которых, по его мнению, должен был являть собою толстого Бонапарта, а другой - Матвея Ивановича. Однако на картинке не первый бил второго, а второй первого.
Учительница в эту минуту не спеша двигалась по проходу и, дойдя до последней парты, заглянула в его тетрадь. Венька ожидал, что она сейчас же раскричится и выставит его вон из класса, но этого не случилось. Она дружески положила ему руку на плечо и шепотом спросила:
- Веня, признайся, а ведь ты ни букв, ни цифр еще не знаешь?
- Не знаю, - готовый сгореть со стыда, сознался мальчик. Учительница потрепала его по голове и улыбнулась:
- Вот что, Веня, сейчас прозвенит звонок, и дети пойдут на перемену. А ты останься. Я тебя отведу в другой класс. Там тебе легче будет учиться. И не переживай, пожалуйста. У каждого из нас эта жизнь начинается с ошибок, - прибавила она печально.
На большой перемене Борька Ковалев, с которым он просидел урок за одной партой в классе грамотных, тыча в него пальцем, весело загоготал:
- Мальчишки, а этот дурак букв писать не умеет, цифр не знает, а в наш класс грамотных приплелся.
- Я не дурак, - вспыхнул Венька, - это ты дурак.
- Почему? - опешил Ковалев.
- А потому, что второй год в первом классе сидишь.
Вокруг засмеялись, а Борька угрожающе произнес:
- Ну, погоди. После уроков лучше из класса не выходи.
И Венька понял, что это не пустая угроза. Он окинул беглым взглядом Ковалева и убедился, что тот выше ростом и шире его в плечах. Якушев вздохнул, понимая, что драки не избежать.
Возвращаясь из школы домой, у входа в Александровский парк Венька увидел Борьку Ковалева и двух его дружков, нахально заулыбавшихся при его приближении. Он понял, что терять ему нечего - все равно быть битым. Венька попробовал свой портфель и убедился, что тот достаточно тяжел. Спасибо, мать заставила на всякий случай положить в него все учебники для первого класса. Дальнейшее совершилось в одну минуту. Борька Ковалев, низколобый, с толстыми оттопыренными губами, шагнул навстречу, сипло сказал:
- Ну так кто второгодник? Проси прощения или во! -Борька занес было кулак, но Венька дожидаться не стал. Размахнувшись, он ударил тяжелым портфелем противника снизу вверх и так сильно, что лицо у Ковалева залилось кровью. Проходила в эту минуту мимо какая-то богомольная старушка, остановилась у входа в парк и стала истово креститься.
- О господи! Антихристы проклятые. Семя иродово... И где свою драку затеяли, у горсовета самого. Энтот, что убежал, все лицо бедному мальчишке раскровянил. Да нетто при царе гимназисты так себя вели? Стыд, да и только. И куда это милиция смотрит?..
Она причитала и причитала, но заключительную часть ее речи Венька не мог уже расслышать. По широкой аллее он бежал до выходных ворот, все еще опасаясь, что за ним кто-то гонится, потом метнулся в свою родную Барочную и только там, тяжело отдуваясь, перешел на шаг. Шнурки на его ботинках развязались и волоклись по земле.
Мать встретила сына подозрительным взглядом, а отец, у которого не было в этот день лекций, качая головой, потребовал тетрадь. Раскрыв ее на первой странице, поражение воскликнул:
- Ого, Наденька! Посмотри-ка, какие перлы! Я-то думал, мы своего сына в нормальную школу отправили, а он, очевидно, в академию художеств попал.
Мать взяла в руки тетрадь.
- Венечка, разве у вас самым первым был урок рисования?
- Нет, мама, - избегая ее взгляда, ответил сын.- Это я в классе грамотных рисовал. Я туда по ошибке попал. Учительница говорит: дети, пишите цифры, а я их не знаю, пишите буквы - а я их тоже не знаю. Вот и рисовал вместо этого. Вы же меня не научили.
Родители переглянулись. Александр Сергеевич неодобрительно поглядел на сына. Венька сидел на кровати, ремень на его брюках был расстегнут, воротничок помят, шнурки ботинок свисали до самого пола. На лысой голове отца показались бисеринки пота.
- Нет, - сказал он, - из этого анчутки человека не получится. Его уже и поколотить успели. Смотри, Наденька, одной пуговицы на рубашке нет. В деда своего пошел, в Сергея Андреевича. Вот чей характер он унаследовал!
- Оставь, Саша, - сухо перебила мать, - твоя теория наследственности - вздор.
- Нет, Наденька, - вздохнул Александр Сергеевич и посмотрел на нее тем сожалеющим, не лишенным иронии взглядом, каким смотрит человек на своего собеседника, заранее его прощая за предельно наивные суждения. - Теория наследственности - в большинстве случаев сила, с которой нельзя не считаться.
- Вздор, - упрямо повторила Надежда Яковлевна. - Почему же тогда вы с погибшим Павлом, дети одного отца и одной матери, выросли такими разными? Ты - эрудированным интеллигентом, а он - бойцом отчаянной храбрости. Ты искал свою правду разумом, а он - сердцем и Штыком. Нет, Саша, никакой наследственности, а есть влияние окружающего мира.
- Плюс к этому тлетворное влияние улицы, в чем наш сын изрядно преуспел.
- Ладно, Саша, не ворчи, - вдруг заулыбалась Надежда Яковлевна и бросила добрый взгляд на сына. - А ты, Веня, не раскисай. Иди умойся, покушай и марш на бугор развеяться. Там уже все твои дружки собрались. Расскажи им, как ты провел свой первый день в школе.
Венька ответил ей благодарным взглядом.
Человек, начинающий жить, это та же былинка в поле. Налетит ветер, и никнет иная былинка к земле, моля о пощаде. Но от такой покорности лишь свирепеет ветер, валит ее на землю, устрашающе кричит в самое ухо: "Не пощажу!" и в конце концов выдирает из земли с корнем. И летит она, бедненькая, в потоке суховея ввысь, разламываемая им на десятки мелких частиц, и погибает навеки. А иная гордо тянется к солнцу, зная, что никогда оно ее, беззащитную, не тронет, а пожалеет. И если закричит тот же самый суховей: "Не пощажу!", обронит такая былинка слезу свою светлую, с хитринкой в ней затаенной, взмолившись, попросит: "Не тронь меня, суховеюшка!" И не выдержит тот, засмеявшись, промчится мимо. Ну а если и не промчится, все равно сумеет обмануть его такая хитрая и смелая былинка: низко-низко распластается по земле среди высоких колосьев и останется невредимой.
В засуху и недород склоняются над ней колосья: "Былинка, былинка, ты ближе к земле, напои наши корни, не дай нам погибнуть". И былинка пьет как можно меньше воды, чтобы не страдали от зноя злаки. Зато когда нальются тугим спелым зерном колосья, они всегда прикроют от холода, зноя и ветра добрую умную былинку.
Так и человек. И умом, и хитростью, и смелостью должен он обладать сызмальства, чтобы быть похожим на такую былинку в поле. А если не помогут родные и близкие обзавестись такими качествами с ранней поры, трудно будет идти такому человеку по жизни.
Гришатка и Веня были давно уже скованы крепким сном, а их родители все еще вели долгий и трудный спор в кабинете у Александра Сергеевича.
- Нет, ты не права, милая Надюша, - увещевающе говорил Александр Сергеевич. - Ну как же мы так? Два педагога - и отправили сына в школу совершенно неподготовленным. Представь себе, что тридцать мальчиков и девочек, в том числе из малообеспеченных семей, где порою родители пьют и бранятся, пришли учиться в так называемый "грамотный" класс, зная и алфавит, и цифры. А нашего Веньку оттуда выставили с треском. А все потому, что ты упряма, как наша лайка Мурза, которая не хочет быть на цепи, а предпочитает свободу двора.
- Уж не меня ли в качестве кары ты собираешься посадить на цепь? - рассмеялась жена.
- Стоило бы, - пробубнил Александр Сергеевич.
- Нет, это уж ты лучше сам садись, - вспыхнула она, - а меня и моего Веню не трогай. Мы не Мурза, чтобы на цепи содержаться. Между прочим, я и сейчас не вижу ошибки в том, что наш сын пошел в школу без репетиторской подготовки. Я знаю, что ты бы его по математике сумел так вышколить, что он и третьеклассникам носы утер бы. Да и я по грамматике и естествознанию могла бы подготовить его. Однако зачем?
- Лучше бы уж он утирал им носы своими ответами па уроках, чем бил по ним кулаками, как они это делают на своей Аксайской, - ехидно вставил Александр Сергеевич, но Надежда Яковлевна лишь усмехнулась.
- Постоять за себя будущий мужчина тоже должен уметь, - возразила она. - А что касается школы, так это даже хорошо, что Веня пошел в нее неподготовленным. Ты, Саша, сейчас преподаешь сопротивление материалов, а хочешь, чтобы твой сын не узнал в жизни, что это такое. Нет, пусть с первых дней познает это состояние борьбы. Ему лишь лучше будет. Не надо, чтобы ты или я учились за сына. Пусть своим умом до всего доходит.
Дом Смешливых стоял строго напротив дома Якушевых. Дверь в дверь, что называется. Но в отличие от якушевского, был он пониже ростом и не деревянный, а глинобитный. Все Смешливые были рыжие, и маленький их дворик тоже был рыжим от глины, на которой ничего не росло. Лишь однажды поднялись было на полметра над землей две акации, да и те дружно засохли, едва лишь припекло новочеркасское солнце.
В тесных душноватых комнатах обитала большая работящая семья железнодорожного мастера, состоявшая в то время из восьми человек. У Жорки было две сестры и три брата. В каждой комнате стояли жесткие кровати, и только в одной, что была несколько больше других, - широкая, с никелированными шишечками на спинках, принадлежавшая родителям. В этой семье никто не голодал, хотя и полного достатка никогда не было. За исключением тех, кто ходил в школу, все члены этой семьи работали на совесть. Отец и старший сын Колька, недавно возвратившийся со службы на флоте и с форсом носивший тельняшку даже в самые жаркие дни, рано утром уходили на железнодорожную станцию и возвращались к закату. Второй по старшинству сын - застенчивый Митька - окончил ФЗУ и работал подручным кузнеца на механическом заводе, который по привычке нередко называли по имени его бывшего хозяина, обрусевшего немца Фомы Фаслера. После гражданской войны и установления Советской власти Фома Христианович Фаслер передал свое предприятие в собственность государства. Директором завода стал его старший сын Вельгельм Фомин, а завод носил имя советского общественного деятеля Никольского.
До революции завод Фаслера выпускал чугунные и железные изделия, славившиеся на всю Россию. Водопроводные люки и церковные кресты, надгробные плиты и ограды, железные ступени для лестниц с замысловатыми украшениями можно было увидеть и в Хабаровске, и в Харькове, в Екатеринославе и Ростове-на-Дону и даже в свое время в Петербурге. Вместе с Жоркой Смешливым Венька не однажды бегал на этот завод, который стоял на углу Платовской и Барочной, всего в трех кварталах от их домов. В туго стянутом узелке ребятишки относили туда завтрак Мите Смешливому. Они останавливались перед высоким, всегда открытым в летнее время окном, за которым свирепо ухал огромный молот, обрабатывая очередной раскаленный железный брус. Во все стороны разлетались ослепляющие снопы искр, и мальчики замирали, как зачарованные, не в силах оторвать от этого зрелища своих вытаращенных глазенок.
Митька подходил к окну, вытирал рукавом черной промасленной спецовки вспотевшее лицо и, улыбаясь, говорил:
- Ну так что? Прибежали, кормильцы? Давайте-ка узелок, зараз сам мастер к вам подойдет.
И тут из белесого облака пара возникала огромная фигура Дрона. На его темном от копоти лице, обнаженные в довольной улыбке, один к другому, белые зубы казались сверкающими драгоценными камнями.
- Ну что, шкеты? - басил он весело. - Прибегли проведать? А я сегодня такой голодный, что вашему Митрию быстро управиться с харчишками помогу. Нравится наша игрушка? - кивал он на ухающий молот. - А как, Веня, твоя Мурза поживает, которую мы из лап у собачьих душегубов вырвали? Если что не так, скажи, разберемся. Все-таки Дрон не последний человек на окраине. Вот, Веня, возьми-ка газетку. Своим точно такую же Митя доставит.
Пока они шли домой, почти до самой психобольницы их сопровождали постепенно затихающие удары молота. "Гахгах" - говорил рассерженно молот. У психобольницы Венька развернул газету. Жорка придвинулся к нему.
- Посмотри, что там такое?
И мальчишки увидели большой портрет. Со второй страницы на них, чуть улыбаясь, глядел широколицый Дрон. Колечками спадали на его широкий лоб черные волосы, полосатую футболку распирали могучие плечи. Жорка не совсем твердо прочел: "Ударник труда завода имени Никольского мастер кузнечного цеха Иван Дронов".
- Вот это да! - восхищенно протянул Венька.
У Жоркиного дома их встретила его сестра Рая, тихая, обходительная девушка. Окончив семилетку, она пошла работать на городской почтамт. Была и еще одна девушка в семье Смешливых, старшая Жоркина сестра Шура. Мимо ее комнаты Венька всегда проходил с затаенным дыханием, и была для того особая причина, о которой никто не знал. Все Смешливые были огненно-рыжие, а она - нет. Лишь легким золотистым цветом отливали ее волосы. Все Смешливые были густо конопатые - она тоже нет, если не считать, что на ее смугловатых щеках ютилось немного совсем неярких веснушек. Но они ее только украшали. Над чистым и ясным Шуриным лбом золотились всегда аккуратно расчесанные густые мягкие волосы. Увидав ее впервые, Венька почувствовал, что какая-то непонятная сила словно пригнула его к земле и не дает поднять еще раз глаза на девушку.
- Ты чего это как бука стоишь на пороге? Проходи, - весело обратилась к нему Шура.
Венька перешагнул через порог ее чисто прибранной комнаты с идеально застеленной кроватью, вышитым ковриком на стене и портретами знаменитых киноактеров того времени Пата и Паташона - Монти Бенкса и Гарри Пиля. На маленьком комоде стояли баночки с пудрой и кремом, зеркальце, флакон духов. Но все это было совершенно ничтожным по сравнению с самой Шурой, на которую он смотрел замершими от изумления глазами.
- Да ты что на меня зенки-то пялишь? - засмеялась она. - Я же не сказочная царевна.
- Ты лучше, - возразил Венька, покраснев.
Шура внимательно поглядела на него и развеселилась еще больше:
- Если так, смотри сколько хочешь, я за погляд денег не беру.
Вошел Жорка с надутым и уже зашнурованным футбольным мячом, крайне буднично произнес:
- Ну, чего застрял? Шурки, что ли, не видел? На Ак-сайской уже все ребята собрались, одних нас ждут. Сегодня будем играть с "низовыми" до двадцати голов.
- А может, он не хочет с вами идти. Может, я его присушила, - кокетливо сказала Шура. Венька с пылающими щеками, не поднимая на Шуру глаз, поплелся из дома.
А ночью он проснулся от непонятного озноба и раскрыл глаза. В комнате горела лампа, расплескивая по стене блики. Перед ним стояли встревоженные родители. Отец протягивал развернутый аптечный пакетик с порошком, а мать - валерьянку.
- Выпей, сынок. Ты так беспокойно ворочался, что мы с отцом решили, может, к тебе проклятая малярия прицепилась...
Потом они ушли, загасив свет. Лежа в темноте с открытыми глазами, Венька вспомнил много раз читанную книгу про Тома Сойера, этого взбалмошного американского мальчишку, который с девочкой из своего класса по имени Бекки заблудился в пещерах и чуть не наложил в штаны.
Потом Венька подумал о том, как бы поступил сам, если бы они с Шурой Смешливой остались в таких пещерах. "Да я бы ни разу не вздрогнул и по всем бы коридорам лучше Тома Сойера ее провел. А случись кому-то одному погибнуть, не задумываясь погиб бы сам, лишь бы спасти ей жизнь".
С этими мыслями он крепко и спокойно заснул. Тем временем Александр Сергеевич советовался в соседней комнате с женой о том, как предотвратить надвигавшийся, по его мнению, приступ малярии на сына. Александр Сергеевич был великим мастером по применению лекарств. Он с подлинным вдохновением изготавливал всевозможные "дикохты", как он именовал различные смеси собственного сочинения, которые изобретал на глазах у изумленных домочадцев.
- Одна таблетка беладона, - бормотал он себе под нос, - полтаблетки салола, пять подсолнечных капель и четыре валериановых... Все снимет как рукой.
С этими словами Александр Сергеевич протягивал мутную жидкость больному и удивлялся впоследствии тому, что "как рукой" хворь не снимало. Бывало и так, что он лечил от головной боли, а у пациента вдруг расстраивался желудок. Но не будем принимать во внимание эти незначительные огрехи его медицинской практики, а лучше воздадим должное той самозабвенности, с какой он брался не за свое дело. У Веньки же действительно на этот раз никакого приступа малярии не последовало.
На другой день, когда они возвращались домой из школы, его сосед по парте Гришка Луговой, щуплый остроглазый мальчишка, сказал:
- А ты знаешь, я Надьку Сергееву из пятого "Б" люблю. Так люблю, что женюсь на ней после школы. Только я спать с ней в одной кровати не буду.
- Это почему же? - насторожился Венька.
- Да чтобы дети не рожались.
Озадаченный этим разговором, Венька решил обратиться за разъяснением к матери и спросил, отчего появляются на божий свет дети. Мать, застигнутая этим вопросом врасплох, длинно и путано стала говорить о том, что дети появляются из клеток, а клетки эти накапливаются в материнском организме, соединяются, разъединяются, и это в конце концов приводит к рождению человека. Венька слушал, слушал, да и уснул. А наутро, все вспомнив, он с радостью примчался в школу и, увидев Гришку Лугового, окруженного ребятишками из класса, с порога провозгласил:
- А вот ты и врешь, Луговой. И вовсе дети происходят не оттого, что дядьки с тетками спят, а от клеток. А клетки сами по себе образуются, и в детей превращаются. Во как!
Ушлые ребята так и покатились со смеху, а кто-то из них отвесил Веньке подзатыльник и немедленно скрылся. Ничто не могло поколебать первую Венькину любовь, даже то, что Шуре Смешливой пошел уже двадцать первый год, а Веньке всего-навсего одиннадцатый, да и ростом она была на голову выше. И все-таки разум в горячем Венькином сознании не мог победить его первого наивного чувства.
Встречаясь с Шурой, он норовил забежать ей наперед, чтобы по-собачьи преданно заглянуть в глаза и улыбнуться. И странное дело: взрослая девушка, отвечая на его улыбки, даже стала краснеть при этом.
Как-то Жорка сказал, что сестре, между прочим, через день исполняется двадцать один год. За вечерним чаем Венька, стараясь быть как можно равнодушнее, обратился к Надежде Яковлевне:
- Мам, завтра у Жоркиной Шуры день рождения. Давай ей подарим что-нибудь. Все-таки сестра моего лучшего кореша...
- Опять "кореша", - проворчал отец, - я же запретил тебе употреблять это уличное слово. Надо говорить "друга", как это делает все человечество.
- Ну друга, - поправился Венька.
- Я не против, - согласилась Надежда Яковлевна. - Но что мы подарим?
- Мамочка! -вскричал Венька. - На кустах еще много неотцветших роз. Что, если я штучек пять срежу? И стишок один из книги Лермонтова перепишу на ватманском листе!
- Хорошо, - одобрила мать. - Розы срезай, а стишок... Кстати, учись говорить правильно. Стишок - это что-то обидное, пренебрежительное. Михаил Юрьевич Лермонтов писал не стишки, а стихи. Он был великим поэтом. Чтобы не осрамиться, покажи мне, какое из них ты выберешь.
Вскоре сын принес книгу.
- Вот это, мама.
- О! Да у тебя хороший вкус, - одобрила Надежда Яковлевна. - Я очень люблю это стихотворение, и папа любит. На него была написана музыка, и папа очень хорошо пел этот романс. - Она задумалась и тихо продекламировала:
Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы... Подоясди немного, Этдохнешь и ты.
- Очень хорошо, Венечка. Перепиши и отнеси все это Шуре. Красивая она девушка, добрая, скромная.
Венька достал чернильницу-непроливайку, обмакнул в нее перо "рондо", которым в ту пору в школе запрещали писать, и стал старательно выводить буквы. Дойдя до последних двух строчек, воровато огляделся по сторонам. Матери близко не было. И тогда он быстро на свой лад переделал последнюю строчку. Теперь окончание классического стихотворения читалось так:
Подожди немного, И полюбишь ты.
Жорка Смешливый охотно провел его в комнату сестры.
- Шурка сейчас чепурится, идти куда-то собирается, - пояснил он и, открыв дверь, громко объявил: - Шура, я твоего ухажера привел.
- Какого еще? - оборачиваясь к ним, спросила сестра. - Ах, это ты, Веня. Ну, проходи, проходи.
Жорка вслед ему пустил ехидный смешок.
- Ты знаешь, как он в тебя втрескался! Спаса нет, по самые уши!
Венька страшно покраснел, метнул в дружка свирепый взгляд, но веселый Жорка убежал, показав ему язык и крикнув, что через минуту вернется. Венька вдруг ощутил, что его рука, стискивающая обернутые мокрой тряпкой колючие веточки, на которых пламенели пять распустившихся роз, словно пять маленьких солнц, стала вдруг деревянной.
Шура неторопливо одевалась. Поставив красивую стройную ногу на табуретку и подняв юбку выше колена, она деловито натягивала чулок, и Венька едва не задохнулся, увидав на этой ноге нежные голубоватые жилки. Чуть смутившись, она вдруг выпрямилась и без усмешки, очень заинтересованно спросила:
- Вот как? Значит, это правда?
- Да ты не слушай этого брехуна, - пробормотал Венька, - он что хочет соврет и дорого не возьмет.
Однако Шура не стала его осмеивать, чего он боялся. Она как-то серьезно посмотрела на Веньку, потом на свой непристегнутый чулок, еще не закрывший голую розоватую коленку, и тихо, слегка покраснев, сказала:
- Зачем же так, Веня? То, о чем Жорка говорил, - это ведь хорошо. Кого-то любить - очень хорошо. Человек от этого чище становится.
Взгляд ее зеленоватых глаз упал на букетик роз и белевший в нем ватманский листок.
- Боже мой! - воскликнула она. - Да ты, оказывается, пришел меня поздравить с днем рождения. - Она наклонилась и поцеловала его в щеку. От радости и смущения Венька готов был выскочить из комнаты, но Шура положила руки в нежных веснушках ему на плечи и с сияющим лицом проговорила: - Венька, милый мой маленький рыцарь!.. А ведь я выхожу замуж, и через месяц свадьба.
Венька вспомнил, что видел несколько раз у дома Жорки благообразного долговязого блондина в сером костюме, лакированных коричневых полуботинках, именовавшихся па окраине "джимми", и в модном галстуке, и все понял. А Шура, захлебываясь, счастливо тараторила:
- Он добрый, хороший. Машинистом на железке работает. Водит поезд Сальск - Москва на перегоне от Батайска до Глубокой. Я попрошу, и он тебя покататься возьмет на паровозе.
- Не надо, - пробормотал Венька, наклонив голову. - Не хочу я на паровозе... Вот на аэроплане еще бы подумал, а на паровозе не хочу...
И чуткая Шура все поняла.
В начале июня, когда Аксай входил в свое русло, вода в нем быстро нагревалась, и ребятишки бегали купаться по нескольку раз в день, а в реке сидели буквально до посинения, если даже малярия била их тридцативосьмиградусной температурой. В один из таких дней мальчишки с окраины, досыта накупавшись, стали собираться домой. Было их трое: Жорка, Венька и Олег. Солнце уже снижалось, и на берегу от низовки стало прохладнее, отчего перекупавшийся Олег, стуча зубами, прыгал на одной ноге, стараясь попасть другой в штанину.
- Ребята,- предложил он,- давайте поднимемся по крутому спуску. Пока до него дойдем, нам курьерский поезд Сальск - Москва встретится. Ух и красиво он шпарит!
- Давайте, - оживленно подхватил Жорка Смешливый. - А вы знаете, кто его ведет? Нашей Шурки жених Коля Пронин! У них свадьба скоро. А Николай парень мировой. Он в рейс меня обещал захватить.
Венька грустно молчал.
- Как пойдем, по шпалам или по берегу? - спросил Олег.
- По берегу,- решительно заявил Жорка.- Там песочек горячий, пусть ноги поласкает.
И они зашагали. Слева тянулся поросший камышами берег Аксая, медленно текущего к Дону, справа - железнодорожная насыпь. Крутой спуск начинался у кирпичного здания завода Новхимпром, по буеракам он вел вверх узкой глинистой тропкой к тому самому заветному бугру, что давно стал местом сборища ребятни с Аксайской улицы, а дальше открывал путь к центру Новочеркасска.
Мальчишкам надо было взобраться по крутому, выложенному булыжником откосу насыпи у Новхимпрома и подняться на бугор. Еще издали около заводского корпуса, где всегда валялись груды битого стекла и кисло пахло мылом, Венька заприметил прямую девичью фигуру в белом платье. Девушка взволнованно расхаживала по обочине железнодорожного полотна. Пройдя несколько шагов, круто поворачивалась и возвращалась назад. Затем все повторялось. Ее постепенно вырастающая по мере их приближения фигура и манера чуть-чуть придерживать короткую прическу рукой при ходьбе кого-то смутно напоминали Веньке.
- Жорка, а она ведь чем-то на Шуру твою похожа,- сказал он неожиданно.
- Кто? - повел на него белесыми глазами Смешливый.
- Та, что ходит.
- Опупел ты, что ли? - ругнулся дружок.- Совсем не похожа. Да и чего бы нашей Шурке здесь делать? Смотри лучше, вон у Голицыной дачи уже курьерский показался.
Вдалеке железная дорога полупетлей огибала холмы с лепившимися к их подножию деревьями. Если со стороны Ростова шел поезд, издали он казался медленной длинной змеей, продирающейся сквозь заросли. Но это не относилось к единственному курьерскому, мчавшемуся на огромной скорости. Даже отсюда было видно, как быстро он поглощает расстояние. Около песчаного карьера, где в ту пору добывали слюду, рельсы делали полукруг, и поезд на время исчезал из виду, чтобы потом совсем близко от Новхимпрома неожиданно вырваться из-за поворота. Перед этим машинист всегда давал длинный оглушительный свисток, чтобы предупредить зазевавшихся.
Венька бросил взгляд на девушку в белом. Она все еще стояла на самом верху насыпи. В этом не было ничего необычного. Многие из прогуливающихся по берегу подходили в такие минуты поближе, чтобы лучше рассмотреть этот пассажирский состав, считавшийся гордостью всей Северокавказской железной дороги.
Ребята совсем близко были уже от Новхимпрома, когда поезд, изогнувшийся, как змея, вырвался из-за поворота. Опережая дробный стук колес, сначала показалась стальная грудь паровоза н труба, исторгающая в небо целые тучи искр и дыма.
- Венька, смотри, ух и прет! - восторженно оповестил поднявшийся почти на половину откоса Жорка. Но Венька, охваченный каким-то нехорошим, тревожным предчувствием, оглянулся на девушку в белом. На его глазах она распростерла руки и, словно в воду ныряла, без крика кинулась под поезд. Лишь на одно мгновение увидел мальчик ее смуглое лицо, уже не оставлявшее никаких сомнений.
- Жорка, это она! - закричал он отчаянно. - Ваша Шура!..
Чугунная решетка паровоза на два-три метра отбросила девушку, и она упала навзничь на горячий от солнца песок обочины. Зеленые и один красный международный вагоны с сухим треском промчались мимо, оставляя в прокаленном солнцем воздухе запах железа и угольной пыли.
Жорка и Венька первыми склонились над распростертой девушкой. Глаза ее были открыты, левая сторона головы залита кровью, губы белы. Жорка упал на колени и завыл, а Венька окаменело стоял перед ней и только шептал пересохшими губами:
- Шура, зачем ты это?.. Шурочка, не умирай...
Но жизнь уже уходила из ее тела. Глаза бесстрастно отражали и голубое небо, и кудлатые белые облака, передвигавшиеся по нему, только девушка ничего этого уже не видела.
Сбежалась толпа, грохоча старыми рессорами, приехала "скорая", явились санитары и милиционер.
- А ну марш отсюда! - крикнул он на заплаканного Жорку.
- Да как вы смеете! - взорвался Венька. - Ведь это же ее брат!..
Через толпу пробился костистый человек в белом халате, осторожно взял Веньку за плечи:
- Успокойся, пацан. - И кивнул на Смешливого: - Он тебе друг?
Всхлипывая, Венька ответил: "Да".
- Возьми его и проводи домой, - обратился он к Веньке. - К сожалению, его сестра скончалась. Мы отвезем ее тело в морг городской больницы.
Когда они бегом поднимались на бугор по крутому Барочному спуску, Жорка Смешливый твердил одну и ту же фразу:
- Мама, Шуру, Шуру поезд зарезал, мама, Шуру поезд зарезал.
Лишь у самого угла Барочной и Аксайской он осмысленно прошептал, но так, что Венька его расслышал:
- Ты сейчас шпарь домой, а я к своим один. Понял?
Венька молча кивнул головой. Хлопнув калиткой, он не стал заходить в дом, а, пробежав через весь двор, упал в траву в самом его далеком углу и безнадежно и долго плакал. Высокая лебеда плотно скрывала его от чужих глаз. И все-таки, обеспокоенные долгим отсутствием, родные стали искать его. Венька не слышал приближающихся шагов.
- Да вот он, мама, - почти над самым его ухом прокричал Гришатка, - в траве лежит.
- А чего всхлипываешь, побили, что ли? - окликнула мать.
Но Веньке ни одному человеку не хотелось сейчас говорить о том, что он увидел и пережил. Пусть кто-нибудь другой рассказывает о Шуриной гибели, но только не он.
- Побили, - мрачно согласился Венька, а мать, всегда спокойно относившаяся к его кулачным неудачам, лаконично отметила:
- Ничего, это не самое страшное в жизни. Умывайся - и за стол. Отец с работы пришел.
"Самое страшное в жизни, - горько подумал Венька, - это Шура с окровавленной головой, распростертая па земле".
Ел он вяло, пища комом становилась в горле, а временами слезы застилали глаза. Хорошо еще, что отец, занятый своими заботами, просматривал за обедом какой-то научный журнал и ничего не заметил. После обеда Венька лег на кровать с томиком Гоголя. Он теперь любил перечитывать "Майскую ночь", если было тоскливо, но сейчас строчки прыгали перед глазами, и он ничего не понимал. В конце концов Венька заснул сном потрясенного, вконец обессиленного человека.
Когда он очнулся, сквозь занавески на окнах в комнату лился слабеющий багровый свет. Гришатки не было дома, а из большой комнаты доносились голоса отца и матери, продолжавших очередной спор.
- Нет, ты ему ничего не говори об этом ужасном самоубийстве, - скрипучим голосом требовал отец, - пусть как можно дольше остается в неведении. Не надо травмировать психику ребенка. И на улицу постарайся его хотя бы завтра не выпускать.
- А я с тобой не согласна, Саша, - возражала задумчиво мать. - Что же это за педагогика? Ты хочешь держать нашего сына под каким-то искусственным колпаком, ограждая от сложностей жизни! Чего хочешь добиться? Чтобы он человеком вырос или оранжерейным цветком, не защищенным ни от ветра, ни от зноя? Так, что ли?
- Нет, тебя не переспоришь, - сердито ворчал Александр Сергеевич, и, судя по его сиплому дыханию, припадок астмы был уже не за горами. - Упряма ты, Наденька, как осел. Не надо, чтобы Венечка знал о трагической гибели этой девушки. Это отрицательно на него подействует. Ведь он же страшно нервный и впечатлительный, а человек в его возрасте всегда обостренно переносит смерть любого своего знакомого. Да.
Венька встал с заскрипевшей кровати, босыми ногами протопал в зал, где сидели за столом друг против друга родители, коротко объявил:
- Папа и мама, я был первым человеком, который вместе с Жорой Смешливым подбежал к бедной Шуре. Она ведь на наших глазах бросилась под паровоз. Только помешать этому мы были не в силах. Какая красивая и добрая была бедная Шура... - Все это он выпалил одним духом и тотчас выбежал из дома, боясь расплакаться.
А наутро Аксайскую улицу как громом поразила новая весть. Оказывается, когда бедной Шуры уже не было в живых, к Смешливым домой как ни в чем не бывало пришел ее жених, машинист того самого поезда, под который бросилась девушка. В одной руке торт, в другой пышный букет цветов. Жених спросил Шуру, но вместо дочери из дома с тяжелым ломом выскочил отец и на всю Аксайскую закричал:
- Это ты, негодяй, ее спрашиваешь? Убил решеткой своего паровоза, а теперь спрашиваешь...
Белый как мел жених выронил подарки из рук и, схватившись за косяк двери, признался, что у них и на самом деле была серьезная размолвка. Кто-то прислал ему грязное анонимное письмо, утверждая, что Шура уже не девушка, что у нее есть другой "хахаль", и Пронин действительно устроил ей сцену. Парень уверял, что сделал это лишь для острастки, а на самом деле любил и любит ее по-прежнему.
- А вот я тебя сейчас ломом по башке как тресну, а потом буду говорить, что для острастки, - мрачно заявил старый Смешливый и в ярости замахнулся снова.
Сыновья еле-еле остудили гнев отца. Старший Николай презрительно -плюнул франту под ноги:
- Ну вот что... Мотай-ка отсюда, и чтобы на глаза больше не попадался...
Аксайская жила по своим законам, и это были законы оголенной человеческой справедливости. Побелевший жених медленно побрел прочь от дома Смешливых, но не к себе на квартиру, а в морг, где ему разрешили проститься с погибшей. Лишь поздно вечером, совершенно разбитый, вернулся он на Ермаковскую улицу, где в одном из двориков снимал маленькую комнатку. Не открывая на двери висячий замок-гирьку, он прошел в сарай и там повесился на собственном ремне. Веньке его не было жалко, потому что по-мальчишески горячо он считал его единственным виновником Шуриной гибели.
В день похорон мать осторожно попросила его не ходить на кладбище, и сын, вопреки ее ожиданиям, никакой строптивости не проявил. Он как-то по-особенному кротко сказал: "Хорошо, мама" - и ушел в детскую. Но когда отец с матерью, разделившие горе соседей, возвратились с поминок, Венька метался в кровати, весь горел от высокой температуры и бредил.
Так и закончилась первая Венькина неудачная любовь. А впрочем, как редко она бывает удачной!
Голод надвинулся неожиданно. Сначала всем были вручены по месту работы хлебные карточки. На зеленые и красные талончики полагалось достаточное киличество хлеба, а сахар, мясо и масло еще и в свободной продаже можно было приобрести. Но вскоре хлебные нормы были уменьшены, а на сахар, как и на хлеб и мясо, выданы карточки. В общепитовских столовых уже нельзя было, запросто там появившись, заказать биточки или гуляш. Теперь, чтобы их получить, надо было выстоять огромную очередь. Голод вползал в магазины, буфеты и жилища, опустошал закрома и мешки, делал печальными лица людей. Теперь новочеркассцы стали редко ходить друг к другу в гости, а если и приглашали к себе самых званых, то столы уже не ломились от яств и в потолок не летели пробки от донского игристого, если даже для этого появлялся достойный повод.
По весне на городских улицах объявилось много нищих и беженцев. С котомками за плечами, в ветхой одежде, продуваемой насквозь ветрами всех направлений, они разбитой походкой переходили на Аксайской от одного дома к другому, размазывая слезы, просили хотя бы корочку. Донские казаки никогда не привечали побирушек. Если кто-нибудь у калитки или парадной двери затягивал заунывным голосом: "Подайте копеечку", из окна или из-за забора высовывалась голова хозяина или хозяйки и раздавался неласковый голос: "Не прогневайтесь!" или "Бог пошлет". А то и самое обидное: "Работать надо". Но сейчас, в лихую голодную весну тридцать третьего года, все изменилось, и городская окраина не могла противиться нашествию голодающих станичников. А те все шли и шли: понурые, обездоленные, с запавшими глазами.
На порог парадного дома, где жил Олег, села однажды изможденная женщина с ребенком на руках, которой в особенности не повезло с милостыней, да так и закоченела к утру от яростного студеного ветра, всю ночь налетавшего с займища. Утром стали уходить голодные обитатели двора на работу, а она уже и не дышит. Одни лишь слезы застыли в раскрытых, страданием наполненных глазах. А дите в одеяле из тонкой байки уже и не всхлипывало - голос потеряло. Спасибо, рядом, чуть подальше от психиатрической больницы, был приют, и сердобольные Олеговы родители отнесли туда сиротинушку.
В те же примерно дни, идучи на заводскую смену, встретил Ваня Дронов вереницу мужчин и женщин, бредущих под конвоем хилого милиционера. Милиционер был мал ростом, и от этого желтая кобура, свисающая с его пояса, казалась неимоверно большой.
- Кого это ты гонишь? - грустно пробасил Дрон.
- Саботажников, - неохотно ответил милиционер.
- Эх, служивый!.. Да какие ж они саботажники, если от голода еле передвигают ноги. Да и сам-то ты с трудом плетешься...
- Не знаю, приказ, - вздохнул милиционер, и печальная процессия двинулась по Аксайской дальше в сторону вокзала. А Дрон долго стоял на широко расставленных ногах, чувствуя, как сбегают по широким щекам непрошеные слезы, а потом и сам, обессиленный голодом, зашагал к заводу.
Нелегко жилось и семье железнодорожного мастера Смешливого, еще не оправившейся после гибели старшей дочери. К тому же самый младший сын Василий неожиданно тяжело заболел. Тогда не было в ходу иностранного термина "менингит". Болезнь, которая его свалила, называлась двумя короткими страшными словами "воспаление мозга". Вася никого не узнавал, его сжигал жар и жажда. Жалко всхлипывая, он тоненьким голосом требовал:
- Жарко, мама, снега на лоб скорее. Где Шура, пусть сказочку расскажет или песенку мне споет.
Мать, стоя у его изголовья на коленях, тихонько подвывала, и была от этого особенно страшной.
- Сыночек, не уходи... не осиротинь, пощади... старая я стала, не выдержу.
Васю лечил доктор Водорезов, проживавший по соседству на Кавказской улице, высокий, с грубым голосом и военной выправкой, горбоносый, уже немолодой человек. Александр Сергеевич называл его за глаза "иерихонской трубой". Водорезов и на самом деле когда-то был полковым лекарем, не блистал светскими манерами и отличался еще одной особенностью. Он всегда говорил родственникам, да и самому больному, правду в глаза. Под низкими потолками в доме Смешливых ему приходилось пригибаться, в особенности когда перешагивал порог. Водорезов садился у кровати больного на почтительно придвинутый стул, клал ему на пылающий лоб большую ладонь.
- Ну что, раб божий Василий, - спрашивал он трубным голосом, - выживем аль нет?
- Да что ты, батюшка Николай Григорьевич, Христос с тобою, - скорбно крестилась мать.
- А я что такого сказал? - широко раскрывал глаза Водорезов. - Я ничего. Это для его приободрения, и только. Захочет жить, вывернется. Силенки в этом тельце остались. Вишь как улыбается, проказник. Все понимает. Значит, борется за жизнь.
И Васька, не способный еще подать голос, и на самом деле в эту минуту улыбался немощной улыбкой. Предсказания доктора оказались верными: кризис миновал.
Когда Николай Григорьевич пришел с визитом через неделю, Васька уже слабо говорил и, наученный матерью, благодарно приветствовал доктора:
- Спасибо, дядя Коля...
- Ай да молодец! Значит, не захотел умирать?
- А кто ж того хочет? - улыбнулся бледный Васька. - Котлетку хочу...
- Да где ж ее взять? - вздохнула мать.
Но доктор выписал рецепты и, покачав головой, наставительно сказал:
- Вот что, Матрена Карповна, если хотите, чтобы Василий поскорее на ноги встал, кормите его получше. Хоть из-под земли, но доставайте еду.
Мать горестно слушала.
- Эх, батюшка, батюшка, век за твою доброту поклоны отбивать буду. По старым временам яичек бы тебе за все хлопоты, чебачка, водочки... Да где ж все это в лихую годину возьмешь?.. Не обессудь, родимый, прими за свои благородные хлопоты вот хоть пятерочку. - И она протянула ему зажатую в руке бумажку. Но Водорезов, выпучив глаза, сердито закричал:
- Прекратите! Лучше ему на эту пятерку молока хоть стакан купите. - И, собрав свой чемоданчик, ушел. Он никогда не брал денег с бедных пациентов.
Очутившись под открытым небом, Водорезов остановил свой взгляд на якушевском доме. "Зайду к Александру Сергеевичу, - подумал доктор. - Уже вечер, и он наверняка у себя".
Предчувствие его не обмануло. Хозяин сам распахнул дверь парадного. Был он одет по-домашнему просто. Мятые брюки с широкими штанинами, на ногах парусиновые туфли, любимая сатиновая косоворотка с незастегнутой верхней пуговицей. Близоруко щурясь, хрипловатым простужепным голосом воскликнул:
- Ах, Николай Григорьевич! Как великолепно, что зашел! Давненько не виделись. Откуда и какими судьбами?
- От ваших соседей, - откашлялся доктор, - от Смешливых.
- Да, да, - подхватил Якушев, - совсем недавно пережили такую трагедию, и опять беда в дом. - Теперь с Васей...
- Он уже вне опасности, - улыбнулся Водорезов.
Александр Сергеевич самолично раздел в коридоре неожиданного гостя, поставил в угол чемоданчик с медицинскими принадлежностями.
- А у меня уже один гость сидит. И тоже неожиданный. Мой любимый ученик.
В кабинете Якушева сидел человек отнюдь не студенческого возраста. На вид ему было лет тридцать - тридцать пять. Среднего роста, с твердыми плечами и широким смуглым лицом, отмеченным шрамом над верхней губой. Большие сильные руки уверенно покоились на коленях, обтянутых габардиновыми комсоставскими бриджами. Гимнастерка на нем была также военная, но со следами споротых петлиц. На широком, несколько холодноватом лице блуждала вежливая улыбка, да и глаза были какими-то замкнуто-холодными.
- Знакомьтесь, - представил их друг другу Александр Сергеевич. - Зубков Михаил Николаевич. Доктор Николай Григорьевич Водорезов.
Они пожали друг другу руки, и Николай Григорьевич отметил, что у Зубкова на левой руке лишь половина мизинца.
- В перестрелке лишились? - спросил Водорезов.
У Зубкова удивленно подпрыгнули стрелки бровей.
- Как догадались?
- Зачем догадываться, - усмехнулся Водорезов, - я ведь в одном лице хирург, терапевт и невропатолог. Однако главным образом хирург.
- Махновцы, - улыбнулся Зубков, и его лицо сразу утратило неприступное выражение. - Сунулся неопытным мальчишкой в первый бой, вот и досталось.
- Отметка эпохи?
- Выходит, так.
Пребывавший в отменном настроении Александр Сергеевич охотно пояснил:
- Миша еще мальчиком добровольно пошел в ЧОН, а потом в Красную Армию.
- А чуть позднее в шахту, - прибавил Зубков, и Водорезов тотчас подумал: "Так вот отчего руки у него такие сильные".
Александр Сергеевич, улыбнувшись, продолжил:
- А потом - к нам в техникум на студенческую скамью. Вот и рассказали мы тебе, Николай Григорьевич, его биографию.
Доктор прищурился, пригладил жесткий ежик волос.
- И сколько же вам было, уважаемый Михаил Николаевич, когда сели на студенческую скамью?
- Да немало, - засмеялся Зубков, - что-то около двадцати семи лет. Моя Маша уже успела двоих детей на белый свет произвести. А учиться было так трудно, что, если бы не великодушная помощь Александра Сергеевича, едва ли вытянул бы.
- Не скромничайте, Миша, - ласково перебил Якушев, - вы такой упорный, что и сами справились бы. Моя помощь была весьма условной. Извините, дорогие друзья, Надежда Яковлевна в бегах, поэтому на правах хозяина угощу вас чаем. Заранее оговариваюсь, чай не цейлонский, но по нашим трудным временам сойдет. Называется он фруктовым.
Александр Сергеевич принес на белом подносе три стакана чаю и три тонких кусочка хлеба с маргарином. Водорезов чертыхнулся и, обжегшись кипятком, прибавил:
- Никогда не пил такой дряни! Единственное достоинство, что и она в горячем состоянии согревает. Спасибо, Александр Сергеевич, я потопал. Да будут прокляты те, кто организовал эту голодную весну.
- А почему вы полагаете, Николай Григорьевич, что ее организовали? - напряженно спросил Якушев.
- А то как же! - уже из коридора выкрикнул доктор. - Что же, по-вашему, она сама себя придумала, что ли? Или вы забыли, как прошлым летом колосилась пшеница и рожь на Кубани, Украине, Саратовщине и у нас на Дону? И вдруг самые урожайные районы страны стали голодными. Почему же голод? Доберутся когда-нибудь историки до этого.
- Не знаю, - пробормотал Александр Сергеевич.
- Не знаю, - передразнил Водорезов. - Браво! Я тоже не знаю. Откуда берутся дети, знаю. Откуда берется брюшной тиф, знаю. А отчего голод этой весной, извините, не знаю.
- Так ведь кулаки, - попробовал было смягчить его взрыв Якушев, но Водорезов свирепо тряхнул головой.
- Кулаки! - взревел он. - А какие, позвольте вас спросить? Те, которые стреляли в спину нашим парням в годы коллективизации и поджигали зернохранилища? Так ведь они уже давно в местах, не столь отдаленных...
В комнате было тихо, лишь слышалось астматическое дыхание Александра Сергеевича. Зубков непроницаемо молчал. Доктор натянул на голову порыжевшую старую шляпу, взял чемоданчик и, сказав "желаю здравствовать" удалился.
Зубков грустно вздохнул, пригладил волосы.
- Вы его не вините, Миша, - вкрадчиво промолвил Якушев. У Александра Сергеевича была одна отличительная черта. Если в его присутствии возникал острый спор между порядочными людьми, он делал все, чтобы их помирить. Сейчас он подумал, что Зубков обиделся на ушедшего, но ученик лишь горько вздохнул.
- А я его ни в чем не виню, дорогой мой учитель. Я ведь вам уже докладывал, что всего лишь вчера возвратился из Донской станицы. Доктор шумел здесь понаслышке, а я-то все собственными глазами видел. И хорошее и плохое.
- И как же там, Михаил Николаевич, на самом деле? - нерешительно спросил его Якушев. - Выправимся мы в ближайшее время или нет? Накормим осенью людей или голодными их на следующий год оставим?
Глаза у Зубкова стали тоскливыми.
- Я не должен вам этого говорить, дорогой Александр Сергеевич, но вы для меня как отец родной. Без вашей помощи я бы никогда техникум не окончил. Были дни - руки совсем опускались, а вы в меня уверенность заново вселяли. С кем же мне поделиться своими душевными колебаниями, как не с вами!
Александр Сергеевич в знак согласия наклонил голову:
- Спасибо за человеческое доверие, Миша.
- Так вот, дорогой учитель. На мой взгляд, доктор во многом прав. Были кулаки, которые тоннами прятали в подполье семенное зерно, чтобы сорвать сев. Были и такие, что в спину нам стреляли при создании первых колхозов! Вовремя их ликвидировали. А что сейчас случилось, понять не могу. Думаю, что не Советская власть это сделала, а те, кто примазался к ней. На районном активе я сам слышал речь одного краевого работника. И знаете, что он сказал? Почти каждое слово его запомнилось. "Если вы думаете увидеть кулака в образе краснощекого толстого человека с золотыми часами в кармане жилетки, то жестоко ошибетесь. Кулак ныне сменил личину. Он теперь под истерзанного голодом человека прикидывается". Вы меня поймите правильно, дорогой Александр Сергеевич. Да я за Советскую власть любому глотку перегрызу! Только не поверю никогда, что так она могла распорядиться.
- А что же с тем оратором, Миша? - грустно спросил Александр Сергеевич.
Зубков взъерошил всей пятерней густые волосы, криво усмехнулся:
- Выяснилось, что в прошлом был активным троцкистом. Вот и смекайте, в чем дело. Говорят, что в том райцентре, где он выступал, в школах заставили потом его речь изучать даже. Вот и разберись поди. Голодаем, беды свои валим на неурожай, а так ли это?
Даже мысль ненароком закрадывается, а может, все это кто-то подстроил на радость тем, кто за кордоном Советскую власть побежденной увидеть мечтает? И расчет у тех субъектов тонкий - Советскую власть с донцами и кубанцами поссорить.
У Александра Сергеевича лысина пошла пятнами.
- Тише, а вдруг кто услышит...
Зубков громко расхохотался: - Да разве мы против своей родной власти хоть одним пальцем пошевелить можем? У вас вон брат Павел Сергеевич какой герой был, да и у нас, у Зубковых, шахтерский род потомственный. Так что мы на Советскую власть никакого зуба точить не можем...
Вася Смешливый начал уже вставать с кровати после тяжелой болезни. Ежедневно по утрам на тонких от истощения ножонках он, пошатываясь, делал несколько шагов по дощатому полу и, обессиленный, возвращался к своей койке. Садясь на нее, стирал со лба холодные капли пота и не сводил страдальческих глаз с матери. Тоскливая просьба была написана в его взгляде: "Мама, есть хочу".
- Да что же я сделаю, сыночек мой родненький, - причитала Матрена Карповна. - Нет в доме ни крошечки, хоть шаром покати.
Но Вася не унимался:
- Мама, мне бы хоть одно яичко... или кусочек хлебца с маслицем. А если нет маслица, то просто корочку бы. Изныло все внутри у меня.
- Да где ж я тебе возьму, ты ведь уже съел свою пайку, - вздыхала Матрена Карповна.
Жорка слышал из соседней комнаты надрывные Вась-кины причитания, и щемящая жалость захлестывала его с головы до ног. "Эх, мама, - говорил он самому себе в сердцах, - да не поправится же он от одного твоего сожаления. Ему жрать надо, силы набираться, а ты..." Решительный по натуре, он вдруг обратился к ней:
- Я сейчас отлучусь на немного, ты разреши.
- Опять шалопайничать с Венькой Якушевым да Петькой Орловым пойдете, - упрекнула мать.
- Нет, - отрубил Жорка. - По делу.
- "По делу", - передразнила Матрена Карповна.- Знамо, по какому делу. Футбольный мяч ногами пинать - одно у вас дело.
- Так я пошел, - не отвечая на ее попреки, вымолвил Жорка и, накинув на себя старую Митькину стеганку, выскочил из дома, опасаясь, что мать передумает и не пустит его.
День был на редкость пакостный. С низкого неба сеял противный мелкий дождик. Займище тонуло в густом тумане. Жорка был человеком дела и если что задумывал, то шел к своей цели прямой и короткой дорогой, какие бы сложности при этом ни подстерегали. Сейчас в его разгоряченном мозгу жила единственная мысль: Ваське надо помочь. Если брата не накормить, болезнь, надломившая его и без того слабый организм, может вернуться, и тогда они потеряют Ваську. "Второй покойник в семье - это же ужасно, - думал Жорка. - А спасти Ваську может даже кусок хлеба". И он решился. Он не заметил, как пробежал по Аксайской до красной кирпичной будки. Старая бассейнщи-ца, включавшая воду тем, кто, гремя ведрами, протягивал ей полкопейки или копейку, с удивлением посмотрела ему вслед, горько подумав: "Вот пацанва, даже голод их не берет, окаянных".
Жорка свернул на Базарную и помчался по ней вверх, к рынку. Здесь улица шла на подъем. Он устал и, тяжело отдуваясь, перешел на шаг. Пройдя квартал, остановился, втянул в себя воздух. Здесь он всегда останавливался, даже в те времена, когда дома у них по утрам шкворчала яичница, а кастрюля с горячим молоком ставилась на стол. Чудесный пряный аромат обдавал на этом месте каждого прохожего. В нем смешивались запахи донского ветра, солнца и земли, рождавшей великолепные всходы, поившей и кормившей колосящуюся пшеницу.
Почуяв этот запах, можно было закрыть глаза и сразу увидеть необъятные донские нивы и пшеницу, радостно волнующуюся от набежавшего ветерка, услышать грохот молотилок и веселые голоса комбайнеров. Запах этот доносился со стороны высокого серого здания городской пекарни, выходящего окнами с одной стороны на торговые ряды, а с другой на Базарную улицу.
У широких ворот пекарни, из которых время от времени выезжали грузовики и подводы с хлебом, стоял пожилой милиционер в серо-зеленом плаще и проверял у шоферов накладные. Ветер раздул полы плаща, и Смешливый увидел на его поясе кобуру - она была пустая. "Это хорошо, значит, для острастки только носит", - подумал Жорка.
Цокая копытами по скользким булыжникам, из ворот выехала груженая пролетка. На ней, накрытые брезентом, стояли ящики со свежевыпеченным хлебом... Высокого худого возчика милиционер проверял с особенной строгостью и в конце концов раскричался на него:
- Ну что ты мне тычешь эту накладную? Что тычешь? Здесь же нет главной подписи. А ну иди переоформь документы.
Возчик, ругаясь на чем свет стоит, возвратился во двор, и тогда Жорка понял, что другого подходящего случая не будет. Пока милиционер, отвернувшись от подводы, закуривал, сделав из ладоней щиток, защищавший от ветра дрожащее пламя спички, Смешливый рванулся к подводе, приподнял брезентовый полог, схватил первую попавшуюся на глаза буханку. Опьяняющий запах теплого хлеба терпко ударил в ноздри. Буханка была маленькой, но еще совсем горячей. Прижимая одной рукой ее к груди, он рванулся назад к Аксайской.
- А ну положь! - прогремел за его спиной грозный голос, но Жорка лишь ускорил бег. Сапоги милиционера гулко застучали сзади. "Догонит - убьет", - пронеслось в мозгу у Смешливого, но он не почувствовал страха. Напрягая все силы, он бежал, как ему казалось, все быстрее и быстрее. На самом же деле темп его бега спадал, и Жорка слышал, как все громче и громче стучали за его спиной сапоги преследователя. Даже сиплое его дыхание он уже различал. Еще мгновение - и грубая мужская рука схватит за воротник стеганки.
У мальчишки закружилось все перед глазами, но, пересилив слабость, он рванулся из последних сил, словно обрел второе дыхание. И странное дело - преследователь почемуто начал отставать. Желая убедиться, что это так, Смешливый обернулся и ошеломленно замер на месте. На его глазах милиционер неожиданно осел, и Жорка увидел наполненные мукой блеклые выпученные глаза, пену на бескровных губах.
- Отдай буханку, а то зашибу! - хрипло выговорил милиционер.
Было зябко и голодно. Жорка чувствовал, что и его покидают последние силы, но все крепче и крепче прижимал к груди буханку, стараясь закрыть ее полами расстегнутого ватника.
- Не отдам. На тебе! - Он хотел было сцепить заледеневшие пальцы в кукиш, но они не поддавались. Внезапно милиционер припал к сырой холодной земле щекой, будто хотел что-то услышать, и закрыл глаза.
- Дяденька, что ты! - отчаянно закричал Жорка и, позабыв обо всем, бросился к нему. - Не умирай, дяденька... На тебе корочку от буханки, а если надо, всю ее забери, только сам не умирай! Ведь я ее почему украл? Братик младший после воспаления мозга с голодухи помереть может. Я тебе правду говорю, дяденька...
- Да иди ты к черту, - беззлобно выругался милиционер, и печать смертной тоски сковала его лицо. По серым щекам потекли бессильные слезы, и Жорка услышал к нему обращенные сердитые слова: - Стыдно сказать, - простонал милиционер. - От деникинской пули чуть не погиб, а тут... Иди ты к черту, пацан. Бери буханку, и чтобы духа твоего не было, шпана несчастная, а я как-нибудь выкручусь. Чего ж я буду тебя забирать, если весь Дон голодает... Торопись накормить своего братишку, раз жизнь его от этого зависит.
Жорка разломил грязными в ципках руками буханку пополам. Одну половину положил рядом с привставшим с земли милиционером, вторую, прижав к груди с отчаянием обреченного, понес домой. Он удалялся тихими шагами, не поднимая головы. Милиционер, стоя на опухших от голода ногах, угрюмо смотрел ему вслед.
Мир воспоминаний человека, как мне кажется, состоит из двух половин. В первой сосредоточено все то, что он помнит о добрых и чистых своих поступках, о подвигах и победах, от которых веет гордостью. Во второй половине - воспоминания о горьких ошибках и о малодушии, способном в иные минуты победить самую героическую личность. При одной мысли о таком малодушии краска стыда будет заливать щеки, стиснутые же губы превратятся в одну бескровную полоску и мурашки пробегут по телу.
И сколько бы ни прожил человек на свете, он охотно пускает постороннего в первую половину мира своих воспоминаний и почти никогда не открывает дверь во вторую.
...Только однажды, много лет спустя, в сорок четвертом году, возвращаясь с пятью разведчиками из вражеского тыла, старшина Георгий Смешливый рассказал об этой невеселой истории и о том, как долго испытывал потом угрызения совести, не зная, наказали тогда или нет этого великодушного новочеркасского милиционера.
Ни у кого ни о чем не спрашивая, ничего ни с какими инстанциями не согласовывая, весна в конце апреля стала старательно наводить в Новочеркасске свои порядки. Она вызеленила кусты и деревья на городских аллейках и в парке, который многие еще по старинке именовали Александровским, заставила в спешном порядке красить заборы и скамейки, подстригать кусты. Заморские туристы - скворцы возвратились на родную Донщину и заселили свои деревянные домики. Даже в очередях за скудным пайком по карточкам понурые сосредоточенные лица людей несколько оживлялись. Люди время от времени стали замечать яркосинее небо и с надеждой, что все изменится к лучшему, поглядывать на солнце. К тому же пронесся слух о том, что в Ростове начали продавать так называемый фондовый хлеб, по два килограмма в руки. Однако очереди в первые дни продажи были такие, что ехать туда из Новочеркасска Якушев признал бессмысленным.
- Почему фондовый? - недоумевала Надежда Яковлевна.
- Чудачка, - поправляя на рыхлом носу пенсне, пояснял Александр Сергеевич. - Фондовый - это значит выпеченный из неприкосновенного фонда.
- Так это же хорошо! Зачем в этом фонде зерну лежать, если людям жить стало тяжко, - откровенно радовалась Надежда Яковлевна, но Александр Сергеевич, как и всегда, ворчал:
- Эх, Наденька, Наденька, святая наивность. Да ведь это же на крайнюю меру решилось наше правительство! Фондовые запасы нельзя оголять. А если самураи с востока или германцы с запада нападут? Что тогда?
Надежда Яковлевна замолкала, но тотчас же начинала атаку с другого фланга.
- Давно говорю, почему ты к первому секретарю горкома Тимофею Поликарповичу не сходишь? Он бы помог в эти трудные времена самым близким родственникам Павла Сергеевича. Да и был он у нас к тому же.
- Милая Наденька, - возражал в ответ Александр Сергеевич, - у тебя, извини меня, несовершенная память. Я ведь уже несколько раз говорил: Тимофея Поликарповича давно нет в Новочеркасске. Он в Сулине теперь. Это вопервых, а во-вторых, если бы он и был в Новочеркасске, я бы к нему все равно не пошел. Не умею я как-то просить, бог обошел меня подобным талантом. Да и что бы я ему сказал: "Здравствуйте, я брат знаменитого брата. Дайте мне килограмм сливочного масла"? Так, что ли? Нет, Наденька, уволь. Что бы тогда обо мне подумали?
И все в семье Якушевых оставалось по-прежнему. По утрам мать поила Веньку и Гришатку бурдой, именовавшейся фруктовым чаем, заворачивала каждому из них в чертежную желтоватую кальку по кусочку столь похожего на сыр кукурузного хлеба и отправляла в школу одного, другого в ветеринарно-зоотехнический техникум, в котором тот учился уже на втором курсе.
Он вытянулся, раздался в плечах, над верхней губой пробились жесткие усики. Отец подарил своему первенцу бритву, и теперь по утрам, подражая во всем Александру Сергеевичу, тот старательно мылил подбородок перед зеркалом.
- Смотри, мама, - злословил в такие минуты Венька, - никак, у нашего Гришатки Василиса Прекрасная завелась.
Надежда Яковлевна только вздыхала:
- Большие вы уже стали! Не остри, Веня, скоро и у тебя заведется.
- У меня? - хохотал Венька. - Да никогда!..
Но вдруг он умолкал. Из мира воспоминаний наплывом возникала Шура, такая красивая и незабытая. Казалось, он даже слышит ее ласковый голос, видит руки, покрытые нежными веснушками...
В шестом классе "Б" пятой образцовой школы было двадцать учеников: пятнадцать стриженых мальчишечьих голов и десять кос - по две на одну девочку. Веня и Смешливый сидели на самой дальней парте, которую почему-то называли не "Камчаткой", как во всех других школах, а "малиной" - пристанищем блатных. Жорка, оставшийся из-за болезни на второй год, был самым старшим и самым сильным в классе. Его все мальчишки беспрекословно слушались.
Литературу в шестом "Б" преподавала бывшая вожатая Роза Алексеевна. Она не могла похвастать, что много прочла за свою тридцатилетнюю жизнь, предмет свой не любила и этого ни перед кем не скрывала. Даже директору сказала однажды: "Ради бога, дайте мне другой предмет. Я же физико-математический факультет кончила, а тут!.." - и развела руками.
На уроках Роза Алексеевна методически расхаживала от одного окна к другому и нудным речитативом говорила:
- Александр Сергеевич Пушкин был выдающимся русским поэтом. Он родился в 1799 году в Москве. Дворянин по происхождению, он отражал в литературе жизнь своего класса. Все его произведения посвящены жизни помещиков и аристократов. Жизнь рабочих, крестьян и пролетариата в своем творчестве Александр Сергеевич Пушкин не изображал.
Однажды Жорка Смешливый не выдержал и рявкнул с дальней парты:
- Роза Алексеевна, но ведь тогда же пролетариата еще не было!
- Смешливый, - вспыхнула учительница, - покиньте класс! Я не позволю саботировать урок. Ах, ты и не собираешься? Тогда я уйду, а к вам придет завуч.
Каблучки учительницы дробно простучали по паркету, и дверь за ней с треском захлопнулась. Но завуч не пришел, и класс весело шумел до самого звонка на большую перемену. Завуч к ним на урок действительно явился, но через два дня, и не один, а в сопровождении незнакомого уже немолодого человека. На нем был недорогой песочного цвета костюм и красный, завязанный тощим узлом галстук. Человек этот был лыс, если не считать жестких седых волос на висках. На его полных губах блуждала добрая усмешка, а блеклые, неопределенного цвета глаза были удивительно живыми. Они не смотрели сосредоточенно в одну точку, а перебегали с откровенным интересом с лица на лицо, с предмета на предмет.
- Ребята, - обратился к шестому "Б" завуч, - Роза Алексеевна ушла из нашей школы на другую работу. Я представляю вам нового преподавателя литературы Павла Дмитриевича Литошенко. Прошу любить его и жаловать.
И ушел. А класс остался наедине с новым учителем.
- Теперь вы знаете, как меня зовут? - спросил тот почти весело. - Вот и хорошо. Будем работать. А сегодня я хочу провести с вами урок вне программы. Свободный урок, так сказать.
- А вы читать-то умеете?
- И писать? - ехидно вставил Смешливый.
- Как вы пишете, мы в следующий раз посмотрим после диктанта, - улыбнулся Павел Дмитриевич, - а как читаете, давайте сейчас разберемся. И с этими словами он протянул Смешливому раскрытую книгу.- Это знаменитый рассказ Максима Горького "Челкаш". Прочти вот эту страницу, а ребята пускай послушают.
Смешливый лихо отбарабанил текст, не выделяя своим монотонным голосом ни точек, ни запятых, ни разговорной речи.
- Пономарем бы тебе быть, - под общий смех заключил Литошенко. - Ну как ты прочел, например, вот эту фразу: "Трактир ревел пьяным шумом". Как пономарь! Равнодушно и даже бездушно. А ведь Горький, наверное, долго над ней думал и букву "р" не случайно три раза употребил. И она, эта фраза, должна прозвучать так. - Учитель приблизил к глазам раскрытую книгу и, нажимая на букву "р", громовым голосом прочел: - "Трактир ревел пьяным шумом". Понимаете, ребята, если так прочитать, вы словно бы увидите всю картину: и заплеванные столики, и сидящих за ними оборванных, пьяных от горя босяков, и снующих половых, и засиженные мухами занавески. Вот. А теперь слушайте всю эту страницу.
И Павел Дмитриевич ев прочел. Но как прочел! Его голос то взлетал ввысь и, раскатываясь, взрывался набатом, то замирал и становился мягким и нежным, если речь шла о море, то резко менялся, передавая интонации действующих лиц.
- Вот как надо читать, молодой человек, - сказал он несколько устало и захлопнул книгу, - а вы, мой юный друг... Нет, вы еще не умеете читать.
Потом он до самой перемены рассказывал о Горьком, и никто не пошевелился, когда раздался звонок.
Венька ушел домой смятенным. Он и подумать не мог, что голосом можно так оживить молчаливые печатные строки, показать, что они должны вкладывать в сознание любого, их прочитавшего. Готовясь к следующему занятию по литературе, он вытащил из груды учебников желтую тетрадку, которую прятал от чужих глаз. О ее существовании даже дома никто не знал: ни отец, ни мать, ни даже глазастый Гришатка. Там были записаны его первые четыре стихотворения. Одно из них, то, что показалось лучшим, он старательно переписал на отдельный листок и захватил в школу с твердым намерением показать учителю при первой же возможности.
В школу они всегда ходили вместе со Смешливым. Тот, кто был готов первым, подходил к парадному соседа и оповещал его пронзительным свистом. По пути в школу на этот раз разговор зашел о Литошенко, и Жорка мгновенно оживился:
- А ты знаешь, у него даже прозвище появилось. Восмиклассники долго не раздумывали, Полканом нарекли. А что? Он действительно на старого доброго Полкана немного смахивает, а? Однако мировой дядька.
- Мировой, - охотно подтвердил Венька.
Они чуть было не опоздали на первый урок. Едва успели расположиться на своей дальней парте, как вошел быстрой походкой Литошенко. Положив перед собой портфель, широко улыбнулся.
- Юные мои друзья! Сегодня я вам ничего не буду рассказывать и ни о чем не буду спрашивать. Но это не означает, что в нашем классе будет процветать безработица, как на берегах Темзы. Совсем наоборот. Вы у меня будете трудиться в поте лица. Доставайте-ка тетради для контрольной работы.
Шестиклассники с неудовольствием захлопали крышками парт, извлекая оттуда тетради.
- Пишите, - скомандовал Павел Дмитриевич. - Сочинение на тему: "Мой самый памятный день". Все написали? А теперь каждый из вас должен будет вспомнить наиболее значительное событие нынешнего года, происшедшее с ним самим, либо то, о котором он узнал от других. Антон Павлович Чехов сказал, мои дорогие друзья, что краткость - сестра таланта. Не правда ли, мудрая формула? Я не призываю вас писать длинно, но и не запрещаю. Кто не успеет закончить, сдаст в незаконченном виде. Итак, начали.
Зашелестели страницы тетрадей, заскрипели перья. А Веня задумался. Писать? О чем? Лоб его нахмурился. Самое яркое событие. Да чего же тут раздумывать? Пусть не с ним это произошло, а с его другом, сидящим за одной с ним партой, но ведь это же действительно было событие, достойное описания.
И он рассказал в своем сочинении, как едва вставший на ноги после болезни Васька ждал хлеба, как его брат украл этот хлеб и спасался от милиционера, а потом, увидев, что тот совсем обессилен, повалился на землю, сам приблизился к нему, решив возвратить буханку.
Венька не мог понять, отчего так быстро бежит по линованому листу тетради перо и почему слова будто сами соскакивают с его острого кончика на бумагу. Он позже всех начал и раньше всех закончил. Можно было сдавать тетрадь. Но вдруг Вениамин вспомнил о листке со своими стихами. Он вложил его в тетрадь, ни о чем не предупреждая учителя.
На следующей неделе Павел Дмитриевич принес на очередной урок в портфеле пачку классных тетрадей с проверенными контрольными и положил перед собой.
- Сначала я возвращу тетради тем, кто заслужил отметку "очень хорошо", - улыбаясь объявил он. - Затем хорошистам и в третью очередь тем, кто получил "уд.".
- А тем, кто неуд? - хихикнула Соня Беседина, круглолицая белобрысая девчонка, всегда болтавшая под партой ногой и неопределенно улыбавшаяся к месту и не к месту.
- "Неудов" у нас на сей раз, к счастью, нет, - ответил Литошенко, - хотя, не скрою, был у меня соблазн поставить эту оценку Мише Костину. - При этих словах самый маленький в классе тщедушный мальчишка беспокойно заерзал на первой парте. - Ну посмотрите, что он написал. - Павел Дмитриевич раскрыл тетрадь и прочел:- "...Мы гуляли по лесу, и вдруг из кустов выскочил большой зверь заяц".
В классе засмеялись, а кто-то весело выкрикнул:
- Да он сам и есть большой зверь заяц!
Веня с напряжением ожидал, когда учитель назовет его фамилию. Но она так и не прозвучала. Раздался звонок, и, стуча крышками парт - звук, от которого ни одна школа в мире, вероятно, никогда не избавится, - ребята ринулись из класса. У Литошенко был хорошо поставленный баритон, и он сумел перекричать своих воспитанников:
- Вы свободны. Остаться прошу одного Якушева. Сядь поближе, - предложил он, когда класс совершенно опустел. Якушев сел на первую парту и только теперь увидел в руках учителя свою тетрадь. Литошенко бережно протянул ее мальчику: - Вот что, Веня, мою оценку посмотришь дома. А теперь ответь мне на такой вопрос. В тетрадку был вложен листок со стихами. Твои?
Веня покраснел и наклонил голову. А когда поднял, увидел в руках Павла Дмитриевича свой листок. Держа его перед глазами, он прочел заключительную строфу:
Объят город сном, Сумраком окутан, Лишь в ручье одном Светит месяц мутно.
Картина ночного города. А знаешь, ничего. Честное слово, ничего. Вот что, Веня, ты не будешь возражать, если я попрошу тебя их подписать и со своим сопроводительным письмом пошлю в Ростов, в краевую детскую газету?
Домой Венька прилетел как на крыльях. По пути на Александровской улице успел присесть на холодную скамейку и раскрыть тетрадь по литературе. Глаза жадно искали отметку за сочинение. И вот перевернута последняя страница. На ней он не увидел ни пятерки, ни четверки, ни тройки. Там стояло одно только слово, написанное красными чернилами. Он закрыл глаза, стараясь угадать какое, но так и не смог. А когда вновь их открыл и приблизил к себе тетрадь, слово это само бросилось в глаза. "Превосходно", - прочел он и увидел на конце три восклицательных знака.
Дней через десять, придя в школу, Венька сразу же отметил, что все старшеклассники, встречавшиеся ему на пути, как-то странно поглядывают на него. На верхней ступеньке лестницы стоял шестнадцатилетний Гошка Бородин, длинный угреватый парень, кокетничавший с одноклассницей Симой Юминой. Вся школа говорила в ту пору, что Гошка втрескался в нее по уши. Веня осторожно обошел их и вдруг услыхал, как Юмина шепотом сказала: "Смотри, это тот самый пошел". А в классе его окружили мальчишки. Многие потрясали свернутыми в трубочку газетами.
- Чего это вы? - удивился Веня.
- А ты разве ничего не знаешь? - удивленно попятился маленький Костин.
- Не-ет...
- Тогда прочитай. - И он протянул ему помятую газету. - Здесь твои стихи напечатаны всем нам на диво.
И опять он с триумфом возвращался домой, неся в порыжевшем портфельчике несколько номеров "Ленинских внучат". В этот день у отца были какие-то неприятности, и он возвратился из техникума не в духе. Мать сварила в чугунке суп из лебеды, закрасила его обратом. К каждой тарелке был придвинут кусочек кукурузного хлеба, а белая луковица разрезана на четыре части. Апостол Павел грустно смотрел с иконы на их убогую трапезу. Венька так и не знал, что родители для него и Гришатки ежедневно отрывают по одной части от своих паек. От тарелок поднимался густой пар.
- Единственное достоинство этого супа заключается в том, что он горячий, - вздохнул Александр Сергеевич.
Веньку восторг от первой публикации лишил начисто всякого аппетита. Не дожидаясь, когда родители поинтересуются, как идут его школьные дела, он развернул перед собой газету и снова впился глазами в такие знакомые строчки под жирным заголовком "Весна".
- Чего это ты там нашел? - мрачно спросил отец, занятый своими невеселыми думами.
- Газету, - весело ответил Венька.
- Ну и что там выискал?
- А ты погляди на третью страницу, - посоветовал сын.
Александр Сергеевич вооружился пенсне и пораженно воскликнул:
- Наденька, скорее! У нас в доме сегодня сенсация! Мать, прочитав, изумленно всплеснула руками:
- Венечка, а мы ничего и не знали. Вот, оказывается, ты какой!
В другое время отец тут же поддержал бы ее, но сегодня даже это событие не могло его развеселить. Он возвратил сыну газету и хмуро спросил:
- Веня, сколько тебе лет?
- В этом году тринадцать исполнится, если забыл. А что?
- Пушкин в пятнадцать лет написал великолепное стихотворение "Казак", - жестко сказал отец, но тут же смягчился и похлопал сына по плечу. - А вообще молодец. Есть и рифма у тебя, и слова теплые. Дерзай, одним словом, Венечка. Но запомни одну суровую истину. Не всем литераторам, даже самым талантливым, суждено подняться до этого раннего стихотворения. Пушкин, как говорят, наше солнце. А солнце в Галактике одно. Но Галактика велика, и много в ней звезд большой и малой величины. Любой звездой или звездочкой стать почетно. Ведь что такое литература? Храм с парадным и черным входом. Далеко не каждому суждено войти туда через парадный вход. И как же огорчается вошедший, видя массу людей, проникших туда через черный вход. Они спорят по всяческим мировым проблемам и забывают о том, что не это главное, а книга. Есть книга - есть и писатель, нет книги - нет и писателя. То же самое можно сказать про художника, композитора, актера.
Александр Сергеевич закашлялся и умолк. Ночью он пережил один из самых тяжелых в своей жизни приступов астмы. Кашель яростно набросился на его усталое, истрепанное болезнью тело. Почти до самого рассвета Надежда Яковлевна неотлучно дежурила возле него. Муж сидел в кресле с закрытыми глазами, его лоб и опущенные веки были мокрыми от пота, а лицо серым.
Когда чуть-чуть ослабел приступ, он сказал жене, сидевшей с ним рядом:
- Наденька, уходи. Если станет совсем туго, я сам тебя позову.
Измученный приступом, Александр Сергеевич забылся, и ему представилось, что напротив в кресле сидит родной брат Павел.
"- Здорово, Саша. Ты думаешь, что меня убил бывший царский есаул Моргунов? Нет, братишка, шалишь! Я живой, и мы с тобой еще потопчем эту чудесную землю. А тебе плохо?
- Плохо, Павлик, астма проклятая душит.
- А ты не сдавайся, брат".
Потом они начали спорить, и Александр Сергеевич стал упрямо приводить все те же доводы, что уже приводил не однажды.
"- Человечество делится на две категории, -утверждал он. - Человек может быть либо творцом идеи, либо рабом ее. Ослепленный будущим, ты не оглядываешься на прошлое и не анализируешь настоящее. А человек по своей натуре эпикуреец. Он не желает жить одними жертвами и надеждами на неопределенное будущее. Ему подай сегодня жизненные блага. До сих пор не могу понять, почему вы, большевики, нас, интеллигентов, окрестили прослойкой?
Павел нахмурился, но потом улыбнулся:
- А потому что вы болтались промеж нас, большевиков, и буржуев, как цветок в проруби. Ты знаешь, что представляет из себя, на мой взгляд, интеллигент? Это человек, отчаливший в бурю от одного берега и не приставший к другому. Перестал грести, бабайки сложил и ждет, когда буря утихнет, не зная, к какому берегу волна его прибьет.
- Ерунда, - возмутился Александр Сергеевич, - русский интеллигент - воплощение честности и правдивости. Он всегда готов пожертвовать собой ради идеалов будущего: просвещения, борьбы с невежеством и тьмой. Вспомни, мой брат, сколько юношей и девушек погибло в борьбе с голодом, чумой и холерой. Молодые врачи даже чумой себя заражали, чтобы выработать от нее противоядие. А правда всегда была идеалом русского интеллигента.
- Была, - усмехнулся Павел. - Русский интеллигент, он действительно правдолюбец. Что верно, то верно. Но заставь его бросить камень в городового, который крутит руки студентке, расклеивающей листовки. Знаешь, что он сделает? Боком, боком и ускользнет. А если уж и решится, то рука у него так затрясется, что выпадет этот камень на мостовую. Вот ты распространяешься о его благородстве. Да, русский интеллигент действительно благороден. Если его хватит в пути удар, он успеет извиниться перед прохожими и только после этого отойдет в сторонку, чтобы тихонько помереть, никому не мешая. Разве не так?
- А как же Ленин? - ехидно спросил Александр Сергеевич, удерживающий подступающий кашель.
- Что Ленин? - опешил было Павел.
- Он ведь тоже был интеллигентом.
- Ну и что же, - рассмеялся старший брат. - Ленин у нас один. Он как гора над всеми классами и прослойками. И ты не путай деятельность человека с его происхождением. Владимир Ильич на самом деле интеллигент по происхождению. Однако он настолько велик, что всех за собою повел: и рабочих, и крестьян, и лучшую часть интеллигенции. К такой интеллигенции, как ты, большевики всегда обязаны хорошо относиться. Ты же Деникина и Каледина порохом не снабжал, листовки у Махно не редактировал. И что там говорить: ходи по земле советской, работай на благо народное.
- Работай! А кто будет меня кормить? Я работаю больше, чем вол. И за это получаю всего шестьсот граммов спрессованного кукурузного хлеба в сутки, - брюзжал Александр Сергеевич. - А где же закон социализма: от каждого по способности, каждому по его труду?
Но Павел и тут рубил под корень:
- Да, все так. От этого никуда не уйдешь, и это ты увидел. А почему же ты не увидел, что мы построили Сель-маш, Днепрогэс и Турксиб, зажгли на Урале мартеновские печи? А?"
Александр Сергеевич хотел было возразить, но фигура Павла вдруг стала размываться и блекнуть, как звездочка на рассвете, чтобы исчезнуть совсем.
Раскрыв тяжелые веки, Якушев убедился, что он в кабинете один. И тогда Александр Сергеевич стал думать о своих отношениях с женой. Неужели никогда меж ними не растает холод, и она по всей жизни пронесет лишь одно чувство - чувство любви к своему первому мужу? А их супружество - всего лишь хлипкий огонь под холодным ветром... И в сотый раз думал Александр Сергеевич о том, что мужчине и женщине нужно намного времени, чтобы полюбить друг друга, но еще меньше, чтобы охладеть, а то и возненавидеть друг друга. Засыпая, он с тоскою себе говорил: "Нет, она меня никогда не любила и не любит. Просто я ей не был противен. Вот и проживем всю жизнь, потому что теперь ни ей, ни мне деваться некуда".
Александр Сергеевич очнулся от шумного чужого дыхания. Решив, что Надежда Яковлевна вернулась в его кабинет, он умиленно пробормотал:
- Ну и чудачка же ты, Наденька, я же тебя просил не мучиться, идти отдыхать, а ты...
- Это не мама, - раздался рядом с его ухом отчетливый голос.
- Ты, Гришатка?
- Нет, отец, это я - Веня.
- Ах, это ты, мальчик мой, - обрадовавшись, проговорил отец. - Чего не спишь, тебе же утром в школу.
- Мама сильно устала, а Гришатка дрыхнет без задних ног, вот я и пришел. На лампе стекло вон как закоптилось... Я фитиль привернул. Тебе сегодня было очень плохо, папа... Ты бредил. Будто бы даже с дядей Пашей разговаривал...
- Вот видишь, - вздохнул отец и, помолчав, спросил: - Скажп, ты на меня не обиделся?
- За что?
- За мои слова о Пушкине, что он в тринадцать лет стихи писал лучше.
- Почему же я должен был обидеться? Пушкин и я - смешно. На правду нельзя обижаться.
Отец раскашлялся и схватился за грудь.
- Это только говорится так. На самом же деле люди обижаются на правду, да еще как. И обрати внимание, чем убедительнее горькая правда, тем сильнее обижается на нее человек. Это потому, что сама природа заложила в нем страсть к эпикурейству. Он любит нежиться и не любит страдать, а тем более отдавать свою жизнь даже за самых близких.
Венькины глаза, оттененные длинными ресницами, удивленно расширились.
- А как же дядя Павел? Ух, какой это был человечище! - воскликнул мальчик восторженно.
Отец вздохнул, и лицо его сделалось скучным.
- Это особая и весьма малочисленная категория рода человеческого.
- Я с тобой не согласен, - возразил Веня.
- Почему? - удивился отец.
- А потому что если бы это было так, то Красная Армия никогда не взяла бы Перекопа. Помнишь, как дядя Павел рассказывал нам о том сражении? Там в атаку шла не только, как ты говоришь, малочисленная категория рода человеческого. Там все шли под врангелевские пули.
Венька говорил горячо, и, впервые поглядев на него как на равного, отец не стал продолжать спора. Он вдруг заметил, как сильно вырос сын. Веня не раздался в плечах, но стал каким-то костистым и жилистым. Худое от постоянного недоедания лицо было смуглым, брови над серо-карими материнскими глазами часто приходили в движение, когда он с кем-либо спорил. Александр Сергеевич с тоской подумал о том, как все-таки мало уделял он внимания сыну. Ни разу не поговорил как со взрослым, не высек в горячем искреннем мальчишеском сердце чувства большого доверия к себе. "Будто пасынок он мне, а не сын", - горько подумал Александр Сергеевич и потянулся, чтобы погладить его по темнеющим волосам. Но сын бычком нагнул голову и отодвинулся.
- Не надо, папа.
- Это почему же?
- А потому что не люблю я, когда ласкают. Не маленький.
Александр Сергеевич положил руку на стол, улыбнулся. Долго и пристально смотрел на родного сына. "И еще в одном я не прав, - корил он себя мысленно. - Веня уже не ребенок, которому нужны сладости да игрушки. Он уже подросток и смотрит на мир по-иному. Ишь как изменился, а я и на это не обращаю внимания. Вот уже и пушок на губах, бритву скоро запросит... А в диковатых глазах уже недетская озабоченность. Морщинки над переносьем прорезываются, когда сдвигает брови".
- Чего ты на меня уставился? - вдруг улыбнулся Веня.
- Так... Думаю о твоем будущем.
- Ты?
- А разве отцу это запрещено?
- Да нет, - согласился сын. - Мне тоже с тобой охота посоветоваться.
- За чем же остановка?
Веня оглядел выкрашенные розовой масляной краской прокуренные астматолом стены забитого книгами и скатками чертежей маленького кабинета и вздохнул. Отец его понял:
- Знаешь, сынок, а что, если мы на улицу погулять с тобой выйдем?
Венька неуверенно возразил:
- Тебе же с астмой нельзя...
- А кто его знает, что мне теперь можно, а что нельзя, - беспечно махнул рукой Александр Сергеевич. - Возможно, от свежего воздуха легче станет. И притом мы ненадолго.
- Давай, - обрадованно согласился сын.
Большие синие звезды начинали уже выцветать, и небо на востоке светлело. Со стороны паровой мельницы донесся гудок, зовущий на первую смену рабочих. Редкие прохожие, возбуждая собачий лай, уже появлялись на Аксайской.
Якушевы дошли до бугра, с которого открывался вид на спадающий разлив. Слева мигали огоньки станции. Отец глубоко вздохнул.
- Это и есть место ваших сборищ? - покашлял он. - Во вкусе, однако, вам не откажешь. Действительно, прекрасный обзор во все стороны открывается.
- Бугор? - переспросил Венька и вдруг погрузился в неожиданное молчание.
Тот, еще очень и очень небольшой отрезок времени, который можно было назвать преддверием к юности, пробежал перед его мысленным взором, всколыхнув воспоминания, А они были пока не такими уж обширными, чтобы могли отнять много времени. Картины прожитой жизни, еще предельно короткой, одну за другой подсказывала его память. Он вдруг усмехнулся, подумав о том, что теперь их в семье стало не четверо, как было раньше, а пятеро, потому что не так уж давно родился третий по счету правнук геройского казака Андрея Якушева, вытоптавшего на своем коне от стен сожженной Москвы до Парижа многие сотни верст, - их родоначальника.
Если бы не тот рисунок, сделанный когда-то в расположении русских партизан легендарным Денисом Давыдовым, ставший их семейной реликвией, Вениамин никогда бы, даже мысленно, не смог бы себе представить главу их казачьего рода. Вот почему был он бесконечно благодарен матери, сохранившей этот драгоценный штриховой набросок, по которому теперь можно было представить запорошенный снегом лес, каким он был под Москвой в лихом от горя и бед восемьсот двенадцатом году, вырванное при артиллерийской перестрелке с корнем дерево, перегородившее дорогу, и казака с длинной саблей на боку, державшего под уздцы оседланного коня.
Если бы не этот казак, их рода могло и не быть. А сейчас они ничем не хуже других, тем более что теперь их не четверо, а пятеро. Пятым Якушевым стал его младший брат Юрка, появившийся на белый свет уже после гибели дяди Павла. Тогда наступило время, когда Венькина мать на глазах у всех стала толстеть и жаловаться отцу, что все платья ей малы. Отец как-то осчастливленно улыбался и молчал при этом. А Венъка однажды вернулся очень возбужденным с улицы, опоздав на обед, чем вызвал недовольство родителя.
- Опять ты прошлялся со своими босяками! - проворчал неодобрительно Александр Сергеевич. - Суп с клецками уже остыл.
Не обратив никакого внимания на отцовскую реплику, сын, едва успев отдышаться, выпалил:
- Мама, все мальчишки говорят, что ты беременная. Что это такое - объясни. Ребята смеются, а Олег Лукьянченко больше всех. Я подумал, что тебя дразнят, и дал ему на всякий случай в ухо.
- Видишь ли, Венечка, - улыбнулась мать, - скоро я действительно уйду в больницу, а оттуда возвращусь не одна, а с мальчиком или с девочкой. Скажи, тебе кого лучше принести, мальчика или девочку?
Беззаботно стуча под столом ногой, Венька не задержался с ответом:
- Нет, мама, ты мне лучше котеночка или собачку принеси.
Мать усмехнулась, а в отцовой руке застыла ложка с супом.
- Нечего сказать, напутствие,- пробормотал он кисло.
- Не огорчайся, Саша,- тихо проговорила мать и ласково притронулась к его руке. - Ребенок и есть ребенок.
Все последующее Венька понял лишь в тот день, когда мать вернулась из больницы с запеленутым младенцем на руках.
Младший брат Юрка оказался субъектом весьма крикли вым. Он либо улыбался, либо надрывался в оглушительном плаче, размахивая пухлыми кулачками, и решительно отталкивал от себя расписные погремушки.
Венька и Гришатка хмурились, с трудом понимая, с какой это стати сияют отец с матерью.
Чтобы польстить сыновьям, Александр Сергеевич рассказывал длинные сказки, в которых старшие братья до бесконечности любили младших и, едва не жертвуя своими жизнями, бросались за них либо в реку, если младший начинал тонуть, либо в огонь, если загорался дом и некому было спасти завернутого в мокрые пеленки наследника, либо под поезд, если тот, споткнувшись, падал на рельсы и глазами-пуговками остолбенело смотрел на неотвратимо надвигающуюся на него стальную громаду паровоза. Жестикулируя и меняя тембр голоса, отец изо всех сил старался развеселить их обоих.
Но все кончалось тем, что Венька, уставший от длительного повествования, нетерпеливо спрашивал:
- Все, что ли? Закончил?
Александр Сергеевич смотрел на него, подслеповато щурясь, и, не чувствуя подвоха, отвечал:
- Все.
- Тогда мы пошли на речку, - неожиданно объявлял Григорий, и, шлепая босыми ногами, старшие братья выбегали из дому.
- Шалопаи, бездельники! - ревел им вдогонку отец.- Ни чести, ни совести! Понарожал я вас на свою голову!
За желтым выщербленным порогом отчего дома пути детей расходились: Григорий убегал на речку, а Веня поспешал на бугор.
У мальчишек Аксайской улицы была своя неписаная традиция. Целый день мог пустовать бугор, и солнце палило его глинистую поверхность. Но стоило появиться на нем хотя бы одному босоногому мальчугану и, присев на корточках, обхватив сбитые загорелые коленки, пробыть какой-то десяток минут, как рядом, словно из-под земли, возникал другой, такой же босоногий приятель и тихо усаживался рядом. Здороваться у них в общении не было принято.
Когда семья Якушевых только-только обживала дом на углу Аксайской и Барочной и Венька однажды, приблизившись к общей компании, издали выкрикнул: "Здравствуйте, мальчики!", рыжий Жорка беззлобно сказал:
- Ты это брось - здороваться. Мы эту буржуйскую моду давно вывели. Если кореш, так садись поближе, мы тебя и так примем.
И пришедший молча присаживался, через минуту-другую его голосок уже вливался в общий хор всех участников беседы.
И, бог ты мой, какие только истории и анекдоты не рассказывались на бугре! Бедные родители даже и представить себе этого не могли. Если бы даже самый пристойный из таких анекдотов кто-нибудь из аксайских мальчишек пробормотал во сне, быть бы ему иссеченным самым наидобрейшим отцом либо матерью, а еще чаще, старшей сестрой или старшим братом. Но и пристойного, удивительно чистого и хорошего на этом бугре говорилось столько, что и взрослым иногда не худо было бы послушать, чтобы не забывать, что порою и у детей можно кое-чему поучиться - и доверчивой откровенности, и прямолинейному, но столь необходимому в жизни отношению к честности и неправоте. Нередко на этом бугре ребята говорили о том, о чем даже неведомо было взрослым.
...Убежав в тот день от расплакавшегося младшего брата, Венька уселся на бугре и с наслаждением ощутил под собой нагревшуюся за день землю. День уже клонился к вечеру, и по крутому спуску со стороны речного пляжа ватага за ватагой поднимались купальщики. Не прошло и пяти минут, как жесткий, перемешанный с крошками известняка песок захрустел под чьими-то босыми ногами и хрипловатое дыхание послышалось над Венькиной головой. Только один из его друзей дышал так.
Не оборачиваясь, Венька спросил:
- Это ты, Жорка?
- Я, - ответил, присаживаясь рядом, Смешливый. Несколько мгновений они молча смотрели на зеленое займище, где паслось общественное стадо.
Марево подрагивало над бугром. Со стороны Ростова из-за поворота вывернулся скорый, железным грохотом наполнивший округу.
- Сальск - Москва пошел. Только он в это время шпарит, - предположительно проговорил Веня и вдруг осекся.
У Жорки на щеках побелели рыжие веснушки. Скривив в горькой усмешке губы, Смешливый произнес:
- Тот самый... помнишь, тогда... Он остановился, а Шура осталась лежать на песке рядом со шпалами. Паровоз пыхтел, а решетка у него была в крови...
- Жорка, прости, - перебил его Венька и опустил виновато голову. - Я не хотел тебе напоминать, это просто так, по-дурацки вырвалось.
Смешливый тихо вздохнул и по-взрослому ответил:
- Нисколько ты меня не обидел, Венька. Я уже пережил свое. Помнишь, какая была наша Шурка? Бывало, мать наругает, денег на киношку не даст, а она в свою комнатку заманит, дверь прикроет и, чтобы никто не видел, сунет в карман целковый. "Вот тебе на Пата и Паташона, а остаток на мороженое". А как она за меня и за Ваську заступалась, если отец с матерью нападали за что-нибудь! - Он на минуту погрузился в горестное молчание и вдруг повеселевшим голосом спросил: - Вень, а Вень, скажи, а ты в нее по правде втрескался?
- По правде, Жорка.
- Тю на тебя, дурень! Ты же маленький еще какой тогда был! - засмеялся товарищ, но тут же погасил улыбку: - А впрочем, не обижайся. Мое дело сторона, я больше не буду об этом.
Блеклыми, погрустневшими глазами вгляделся он в серебрившуюся внизу полоску реки, откуда долетали голоса и беззаботный смех купающихся, и, вдруг оживившись, сказал:
- А ты знаешь, Венька, я в седьмом классе учиться с тобой уже не буду.
- Куда же ты от школы денешься?
- Уйду! - твердо объявил Жорка. - В ФЗУ поступать буду. Митька уже обо всем там договорился. Буду на фрезеровщика учиться. Фрезеровщики в СССР тоже нужны. Не всем же, как тебе, об институтах разных мечтать. Так что ищи себе другого кореша.
- А я тоже не буду в седьмом классе учиться! - выпалил Якушев, и так неожиданно, что его растерявшийся приятель только присвистнул.
- Это с какой же стати? - вырвалось у ошеломленного Жорки.
Венька рассмеялся:
- Что? Озадачил? Я в техникум буду поступать. В тот самый, где отец. Мелиоратором решил стать, одним словом, и никаких институтов!
- А пахан?- растерялся Смешливый.- Он возражать не станет? Он же тебя уже вузовцем небось представляет.
- Не знаю, - отмахнулся Веня, - только я твердо решил и не отступлю.
- Да это-то так, - согласился приятель. - Ты действительно если что решил, то добиваешься своего. Только против отца будет тяжело.
- Придет время - попробую, - скупо ответил Венька.
И вот эта минута пришла. Они стояли на знаменитом мальчишечьем бугре Аксайской улицы - он и отец. Пауза затягивалась, перегруженная воспоминаниями. Сын долго молчал, и отец почему-то щадил это молчание. Наконец он неуверенно заговорил:
- Ты чего безмолвствуешь?- Александр Сергеевич деликатно покашлял, кладя ласково руку на Венькино плечо.- Какие воспоминания нахлынули на тебя, сынок?
- Так, - вздохнул Вениамин,- будто все детство пробежало перед глазами.
- Детство? - переспросил отец. - Действительно, значительная часть твоего детства прошла на этом бугре. Написал бы ты о нем стихи. Благородная тема.
- Если получатся...
- Если получится...
- А ты постарайся. И не рассчитывай на вдохновение. Рассчитывай прежде всего на труд. Без труда никакого вдохновения не бывает. Это я тебе как старый землеустроитель говорю, - добрым голосом продолжал отец.- Признаюсь, ты меня удивил тем, что к стихам тебя потянуло. Чего не ожидал, того не ожидал. Не было в роду у Якушевых стихотворцев. И это неважно, получится или не получится из тебя поэт. Люби наше русское слово, Веня. Оно украшает человека, и тот, кто его любит, далеко пойдет, кем бы он ни стал. Подумай, может после девятилетки тебе на литфак поступить?
Сын резко качнул вихрастой головой:
- Нет, отец. Я не собираюсь кончать девятый класс. Хочу как можно скорее вступить в жизнь. И ты мне должен помочь в этом. Скажи, с каких лет принимают в ваш техникум?
- С шестнадцати. А что?
- Плохо, - вздохнул Вениамин. - Мне в этом году исполнится всего четырнадцать. Но ведь ты же все-таки в техникуме завуч. Неужели нет правил без исключения?
- Бывают, Веня, - улыбнулся отец, - и я постараюсь тебе помочь. Но скажи, почему ты так рвешься в наш техникум? Какие думы тебя туда ведут?
- Не думы, отец, а тренога.
- Какая еще тренога? - озадаченно воскликнул Александр Сергеевич.
- Тренога с теодолитом, которая стоит в углу твоего кабинета. Плюс к ней рейка для нивелировки да еще твои рассказы о скитаниях в молодые годы по донским степям в качестве землемера. А я выучусь па гидротехника и уеду в какие-нибудь далекие-далекие края. Ведь это какое счастье - давать полям и людям воду.
Отец и сын стояли под светлеющим утренним небом окраины. Оба почувствовали, как растаял тот маленький ледок, что пролегал между ними, и стала простой и открытой дорога друг к другу. Тяжелая рука отца легла ему на плечо.
- Об одном хочу предупредить тебя, Веня. На свете есть много дорог в жизнь. И по какой бы ты ни пошел, она всегда приведет тебя к цели, если будешь упорным. Но никогда не выбирай две дороги в жизнь сразу, не повторяй моей ошибки. - Голос Александра Сергеевича дрогнул от волнения, и Веня поспешил перебить отца, чтобы не вставали в его памяти грустные воспоминания о неоконченном институте и об опере, которая его, молодого, обуреваемого надеждами, манила огнями рампы, суля известность и славу, но не могла вырвать из жестоких когтей астмы.
- Идем, папа, - мягко позвал сын. - Тебе надо еще хотя бы немного вздремнуть.
- Да, да, - согласился Александр Сергеевич. - Но давай постоим еще с минуту. Ты погляди, чудо-то какое!
Над спадающим разливом Аксая, над синеющими далеко-далеко ветлами, на которые когда-то в бурную ночь держали путь на ветхом плотике беглые холопы помещика Веретенникова Андрей Якушев и его верная Любаша, поднимался огненный шар солнца.
Я прошу тебя, время, остановись! Но не для того, чтобы сосчитать седые морщинки моей памяти. Дай оглянуться на тебя, время! Одинаково отсчитываешь ты дни, месяцы и годы для всего человечества, но у каждого из нас свои счеты с тобой, потому что каждый по-разному прожил дни своей жизни, наполнил их разными делами и поступками и за все это отвечает перед тобою сам.
Остановись хотя бы на мгновение, время! Я хочу увидеть, как уходит в большую распахнутую жизнь самый молодой потомок славного донского казака Андрея Якушева, героя на века всем запомнившегося восемьсот двенадцатого года. Уходит, чтобы продолжать судьбу своего рода уже па новом Дону в совсем иные времена!
Счастливого пути тебе, парень!
1978-1980 гг.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'