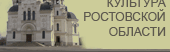
Часть вторая. Братья
Я прошу тебя, время, если сможешь, убавь хотя бы ненадолго скорость своего бега! Помоги мне получше увидеть и прошлое моего родного города, то, свидетелем которого был
я сам, и то, о котором знаю из легенд и рассказов людей старшего поколения, видевшего Новочеркасск в дни поражений и в дни гордых побед, славой овеявших наши вольные донские степи. Я прошу тебя об этом, время, но глухо ты. Не уменьшая скорости, ты все мчишься и мчишься вперед, не обращая никакого внимания на задумавшегося седого человека, взор которого обращен в прошлое. Как бессильны мы перед тобою, время. Человек давно научился измерять скорость ветра и скорость движения облаков, скорость разбушевавшейся вулканической лавы и космического корабля. Для этого создано много умных, совершенных приборов. Но прибора, которым можно было бы измерить бег времени и повлиять на него, до сих пор нет. Вот и мчится оно, неся в пространстве свое невесомое тело, не замечая поборников старины, не желая слушать их всхлипы о безвозвратно ушедшем. Но разве можно врываться в будущее, позабыв о прошлом, не изучив достаточно глубоко гордых взлетов и горьких ошибок? Когда-то наивный мальчик с ямочками на щеках спросил своего отца, прослывшего мудрецом:
- Папа, почему все считают тебя великим? Лишь на мгновение задумался мудрец.
- Сын мой,- прозвучал его ответ,- за свою жизнь жук преодолевает путь в сотни километров, но ни разу не оглядывается назад. Я же один раз оглянулся, и с той поры люди стали называть меня великим.
Остановись, время, и не мешай оглянуться назад!
В один из теплых майских дней тысяча девятьсот двадцать шестого года два всадника на гладких раздобревших конях подъехали к желтому семиглавому новочеркасскому собору, гордо взметнувшемуся своими куполами к небу, и остановились, отпустив повода. На обоих ладно сидела кавалерийская форма. Поправив буденовку, слишком уж насаженную набекрень, один из них легко выпрыгнул из богато инкрустированного седла на покрытую жестким булыжником площадь. Под вторым седло было попроще. На нем отсутствовали замысловатые вензеля, украшающие голубой бархат, и серебряные звездочки промеж них. В синих петлицах у обоих всадников - вишневые шпалы. Тому, кто соскочил первым, на вид было за сорок, второй казался моложе. Друг на друга они ничем не походили, если не считать комсоставской формы, нередко придающей сходство самым различным по внешности людям. Первый был шатен с широким, прорезанным морщинами лицом и косым шрамом на правой щеке от осколка. Глаза у него были синеватые и несколько холодные, так что казалось, что человеку этому вряд ли свойственна мягкость и что привык он других подчинять своей воле.
Второй - голубоглазый блондин с нежно очерченным подбородком и певучей речью, сразу выдающей в нем украинца.
День был безветренный, разогретый солнцем воздух неподвижно стоял над землей. По крутому Крещенскому спуску от городского центра к вокзалу и от вокзала вверх к центру, громыхая, проезжали грузовики, и шум их вплетался в бесконечный цокот копыт. Пролетки, экипажи, бестарки, подводы проносились по городу гораздо чаще, чем не многочисленные еще автомашины.
Наш старый Новочеркасск ревниво в него влюбленные горожане иногда называют "маленьким Парижем", подчеркивая при этом геометрически правильную - прямыми линиями - планировку улиц, площадей и кварталов, осуществленную при составлении проекта царским градостроителем де Воланом. Однако оставим в стороне всю несостоятельность этого сравнения. Париж - это Париж, а Новочеркасск - это Новочеркасск. Позабудем также все разговоры о якобы имевшей место меркантильности этого инженера в генеральском звании, тем более что время убедительно доказало: город, возникший на холме, именуемом Бирючьим Кутом, увенчанный золотыми куполами семиглавого собора, сразу снискал прочное уважение казаков, крепко полюбивших новую столицу доблестного Войска Донского.
Тому, кто хоть раз поднимался на колокольню новочеркасского собора, оттуда открывался заманчивый вид. От широкой, вымощенной твердым булыжником площади во все стороны разбегаются улицы и проспекты, разделяющие центральную часть на ровные, четкие кварталы. Прямые, как стрелы, Платовский и Ермаковский проспекты рассечены зеленеющими весной и летом аллеями. Словно воины, застывшие на своих постах, высятся над их покрытой желтым гравием поверхностью величественные пирамидальные тополя, от которых в теплое южное небо поднимаются целые облака невесомого пуха. Центр города прорезает широкая Московская улица, и трудно на ней отыскать взглядом два дома, которые были бы своей архитектурой похожи друг на друга. И в старину умели строить донские казаки, руками своими преображавшие столицу. Какими лепными карнизами и кафельными кирпичиками разного цвета были украшены фасады! С севера и юга город ограничивали желтые триумфальные арки. А какой оживленной становилась Московская улица по вечерам, когда по обоим ее тротуарам бурливым потоком двигалась принарядившаяся студенческая молодежь, рабочие парни, успевшие после смены поменять спецовку на брюки со стрелками и рубашки апаш! А как танцевали тогда в городском саду под звуки полкового оркестра!
Нет, в те бурные первые годы Советской власти никто не мог бы сказать, что Новочеркасск остался захолустным провинциальным "мертвым городом", каким он был до революции.
- Странное дело, Тарас Карпович,- сказал кавалерист, ехавший в дорогом седле,- здесь я родился, в гимназии немного учиться довелось. Потом на заработки к шахтерам подался, чтобы бедному отцу трудную жизнь облегчить и на шее у него не сидеть, гражданку прошел... а собор этот в законченном виде впервые вижу. Он более полувека строился. Два раза рушился при этом. А смотри, какого красавца и конце концов работный казачий люд сотворил! Собственными глазами читал в одной красочной церковной книге, что лучшими храмами в Российской империи считались Исаакий, Софийский собор в Киеве, а наш, новочеркасский, на третье место был определен. А?
- Поповщина,- широко зевнул Тарас Карпович.- Поповщина, дорогой Павел Сергеевич, и ничего боле.
- Искусство,- строго поправил собеседник.- Великое искусство, совершенное народом.
Блондин усмехнулся и привычным движением поправил портупею.
- Неужто ты считаешь, что зря мы пели и поем в "Интернационале": "Никто не даст нам избавленья - ни бог, ни царь и не герой"?
- Да при чем тут боги и цари, если я о русском зодчестве говорю, о великом таланте народа нашего, комиссар!
- Стыдись, Павел! - взорвался блондин.- Кавалер двух боевых орденов, лучший рубака полка - и такие речи. Доведись до меня, я бы этот собор все-таки взорвал,- за кончил он.- И никак иначе я на него не смотрю, как на место отправления культа и религиозного одурманивания людей. А впрочем, постройка действительно занятная,- согласился вдруг он и, запрокинув голову, стал рассматривать громадное здание собора с его куполами, под которыми виднелись черные чугунные колокола.
Дух захватывало у человека, стоявшего рядом с собором и глядевшего ввысь. Так и казалось, будто позолоченные купола, осененные тонкими крестами, уходят в голубое распахнутое небо, а его самого пошатывает от этого ощущения и грудь, наполненная воздухом, туго звенит.
- Чудак ты чудаком, Тарас Карпович, если этакой красотищей восторгаться не умеешь,- усмехнулся Павел Сергеевич. - Это же великое зодчество.
- А я никаких институтов искусств не проходил,- огрызнулся блондин,- я комиссар полка, и только. На гражданской моя задача была боевой дух да ненависть к врагу у красноармейцев воспитывать, боевой порыв подымать. И точка. Кажется, это у меня получалось, командир?
- Получалось,- не сразу ответил Павел Сергеевич,- однако полагаю, что для того, чтобы теперь быть комиссаром полка, этого мало.
Тарас Карпович натянуто расхохотался:
- А что? Разве теперь красноармеец из другого теста пошел?
- Еще не пошел, но пойдет,
- Как это так, объясни.
- А так, что лет через пять-десять в армию начнут приходить совсем другие хлопцы. Они тоньше и образованнее нас с тобою будут.
- А нас куда же? - оторопел комиссар кавалерийского полка.- Нас - тебя и меня? Или это уже ничего не будет означать, как мы за власть Советов рубились, как Сиваш вброд переходили и как сам его превосходительство барон Врангель пятки от нас смазывал? Чего-то ты темнишь, командир. Мне так кажется, наше Советское Отечество по гроб жизни будет уважать таких бойцов революции, как мы с тобой.
- Будет-то будет,- разглядывая прищуренными глазами прихожан, потянувшихся редкой цепочкой к раскрывшимся резным дверям собора, согласился командир полка.- Да только знаешь, что я тебе зараз скажу, дружище? Революция в нашей преданности не сомневалась и не усомнится. Однако ответь мне на такой вопрос. Предположим, что ты три года не качался в седле и вдруг получил приказ вести боевой полк в атаку, да еще на рысях к тому же. Удержишься ты в седле или нет?
- Разумеется, нет, потому как без тренировки...
- И на посту командира полка не удержишься, если знать будешь меньше, чем парни, что в твой полк придут с гражданки после семилеток, а то и с рабфаков.
- Ну, командир, подвел базу,- рассмеялся Тарас Карпович и добродушно отступил. - Выходит, в сегодняшнем споре ты на сто процентов прав. На одних орденах боевого Красного Знамени всю жизнь не просуществуешь. Башку действительно новыми знаниями надо освежать. А то вот нынче ты упомянул, что собор новочеркасский в византийском стиле построен, а думаешь, я знаю, что такое византийский стиль? Ты мне сегодня вечером всенепременно пояснения на сей счет дай.
- Дам, Тарас, обязательно дам, - улыбнулся Павел Сергеевич.
- Ну вот. Узнаю настоящего боевого друга. А сейчас ты куда?
Командир полка усмехнулся, поправил на гимнастерке скрипучие ремни.
- Эх, Тарас, Тарас! Да разве ты забыл, что я здешний?
- Нет, помню. Меня прихватишь? - нерешительно осведомился комиссар.
Командир полка отрицательно покачал головой!
- Нет, Тарас.
- Значит, от ворот поворот? Вот с таких разногласий наверняка и начиналось расслоение первобытного общества на классы.
- Не серчай, Тарас. Наше с тобой сообщество ни один Врангель поколебать не был в состоянии. А уж теперь, когда мы власть свою утвердили, кто же может. Но сегодня ты меня извини. Мы с братом больше двадцати лет не виделись. Что с ним, какой он? Сам понимаешь, в этом случае первая встреча свидетелей не требует.
Комиссар поправил выбившийся из-под буденовки светлый чуб, сконфуженно сказал:
- Прости, не подумал. Извини за бестактность.
- Ничего,- улыбнулся Павел Сергеевич, - на утреннем построении я уже буду присутствовать. А если заночую, начальник штаба пускай его проведет.
- Значит, у тебя здесь брат? - спросил комиссар.
- Да, брат Сашка.
- Он в гражданской был у белых или у красных?
- По моим данным, ни у кого.
- То есть как это ни у кого? - озадачился комиссар.
Павел Сергеевич усмехнулся:
- А ты, Тарас Карпович, полагал, что в гражданскую весь мир людской был поделен на белых и красных?
- Естественно,- послышался твердый ответ.- Когда совершается революция, так быть и должно.
Командир полка задумался.
- А знаешь, дружище, на этот раз ты в основном и прав. Однако есть еще небольшая категория соотечественников, которые, пока мы с тобой рубились против того же Врангеля, вообще не брали в руки оружия. Ни холодного, ни горячего.
Тарас Карпович остолбенело почесал за ухом.
- Дезертиров, что ли?
- Больных,- коротко произнес командир полка.- Так вот, мой Сашка из их числа. Есть такая поганая наследственная болезнь: астма.
- Гм-м... может, эта и болезнь-то буржуйская?
- Да нет,- совсем уже развеселился командир полка и толкнул Тараса Карповича в бок.- Ладно, пока.
Он вскочил в свое роскошное седло и тронул шпорами бу ланого жеребца. Отъехав с квартал от соборной площади поравнявшись с первым встречным, назвал ему улицу и номер дома. Прохожий, интеллигент по обличию, несколько растерявшийся при виде кавалерийского командира с двумя боевыми орденами на гимнастерке и не сразу понявший, что от него требуется, облегченно закивал головой:
- О! Это же очень просто. Вам надо ехать по Платовскому проспекту в сторону Азовского рынка. Когда увидите на углу завод Фаслера, повернете налево и мимо психиатрической больницы - вниз. По-моему, этот дом стоит на углу Барочной и Аксайской.
Павел Сергеевич поблагодарил, а старый интеллигент, притронувшись пальцами к полям фетровой шляпы, заспешил своим путем.
Застоявшийся жеребец фыркнул, требуя, чтобы всадник дал ему возможность порезвиться, но Павел Сергеевич перевел его на шаг, и конь, недовольно цокая копытами по мостовой, стал медленно продвигаться вниз по улице. Напротив стоящего на постаменте воина с кривой казачьей саблей в руке Павел Сергеевич снова придержал коня и прочел лаконичную надпись: "Графу атаману Матвею Ивановичу Платову. Донцы". И снова зацокали копыта боевого коня, унося всадника к дому на углу Аксайской и Барочной, этих двух окраинных улиц.
Думы, думы, как трудно бывает порою управлять вами. Даже самый волевой человек далеко не всегда в состоянии подчинить себе ваше течение. Как часто, вырвавшись из-под контроля его разума, вы, словно потоки полой воды, растекаетесь вширь, дробясь на отдельные ручейки, не всегда понятные в своем течении. И не успеет разум погнаться за одним из этих ручейков в надежде настигнуть и подчинить его себе, как рядом появляется второй и третий, и уже поистине бывает невозможно оценить тобою же порожденные предположения, выводы и воспоминания.
И горечью, и радостью наполнялось сердце Павла Сергеевича, пока цокали копыта буланого жеребца, приближающего его к дому брата. Вспоминался душный маленький флигелек на Почтовом спуске, где после смерти матери жили они втроем - он, Саша и престарелый отец - в неописуемой бедности, деля ежедневно жалкие завтраки, обеды и ужины. Спасибо все же отцу. Потерпев поражение в своей купеческой карьере, он сберег кое-какие ценности, но и их они проживали значительно быстрее, чем хотелось бы. В безрадостных мыслях своих Павел заглядывал в недалекое будущее и не видел просветов. Просыпаясь порою среди ночи и слушая глухой кашель отца, он часто думал о том, что несладко видеть, как беды и неудачи беспощадно разрушают твоего родителя, будто бурный поток основание скалы, мимо которой он проносится изо дня в день.
Павел отчетливо представлял, что не в силах Сергей Андреевич платить за обучение обоих сыновей в гимназии, одевать их и кормить. Когда нечего было есть, младший брат мечтательно смотрел на него и жалобно вздыхал:
- Паш, а Паш?..
- Чего тебе? - грубовато обрывал его старший.
- А вот боженька, он есть или нет на небе?
- Поп Исидор говорит - есть,- шмыгая носом, неуверенно подтверждал Павел.
- А что же он тогда не пошлет нам на ковре-самолете еды вкусненькой: колбаски, пончиков, коврижек медовых?
- Держи карман шире, так он тебе и пошлет,- со злой ухмылкой отвечал Павел.- Соберет всех своих ангелов и архангелов и скажет: "Немедленно несите сопливому мальчишке Сашке гостинцев". Делать ему больше нечего.
Потом Павел Сергеевич вспомнил тот мрачный вечер, в который он навсегда покидал родительский дом, бледное, растерянное лицо отца, его затрясшиеся губы, после того как он объявил ему свое решение. Удивительно легким был заплечный мешок, с которым он уходил из дома. Раздетый отец догнал сына на углу, сунул последний отыскавшийся в пустом буфете кусок черного хлеба, дрожащими руками перекрестил на дорогу.
А затем шахта, и вагонетки в забое, и тяжелые обязанности коногона. Явившись впервые на заседание подпольного кружка, он страшно удивился тому, как просто и осязаемо в чужих устах звучит правда об эксплуататорах и угнетенных. Когда руководитель кружка, опытный, дважды бежавший с каторги, седеющий в свои сорок с небольшим лет Петре Демидович Сошников осторожно стал его прощупывать, решив выведать, потянется Павел или нет к рискованной подпольной работе, подросток пристально взглянул на него спокойными, редко выражающими его истинное настроение глазами и в упор спросил:
- Скажите, что надо делать?
- Вот это уже речь настоящего казака,- обрадовался Сошников.
Как и следовало ожидать, попался Павел на первом же задании. И не кто-нибудь, не хитроумный опытный филер, а тупой, грубый городовой, от которого смертоносно несло луком и водкой, изловил его и представил в полицейское управление.
Павел разглаживал на серо-цементной тумбе третью по счету листовку, ощущая, как под его пальцами разминаются комки клея, когда сильная рука тряхнула его за ветхий воротник продуваемого ветрами пальто.
- Попался, щенок!..
И считать бы ему телеграфные столбы сквозь зарешеченное окно тюремного вагона до самой Тюмени, а то и до Красноярска или Иркутска, если бы не случай. Ночью в александро-грушевскую полицию нагрянула инспекция. После того как пятерых политических вызвали в кабинет, ее начальник, красивый, стройный полковник с аксельбантом и орденами, стучал ногами на сыщиков и жандармов и свирепо кричал:
- Негодяи! Пьяницы и бездельники! Это так-то вы царскую службу исполняете? Вместо подпольщиков детей в камере держите, которым еще мамкину сиську положено сосать. Тебе сколько лет? - неожиданно ткнул он в грудь Павла.
- Пятнадцать.
- Вон отсюда, и чтобы я духа твоего не слышал! Тогда ему повезло, и, вспоминая об этом, он с усмешкой думал, что родился "в рубашке". Но прошло несколько лет, и он снова был арестован за расклейку уже других прокламаций, призывающих к свержению царя, и выслан в Вятскую губернию на поселение. Павел оттуда бежал и явился по указанному адресу в Петроград. Пробираясь на Васильевский остров, он, как затравленный дикий звереныш, рассматривал роскошные особняки и витрины магазинов, на которых лишь птичьего молока не было. Хоть и не очень советовали ему выходить на Невский проспект, где по проезжей части нескончаемым потоком мчались нарядные фаэтоны и экипажи, запряженные откормленными рысаками, а по тротуарам то вразвалочку, то быстрой деловой походкой весьма озабоченных людей проходили десятки офицеров и полицейских, по любопытство взяло верх - и ослепительный Невский предстал глазам.
Такого множества персон, сразу вызывавших острое чувство настороженности, Павел еще никогда не видывал. Время от времени он останавливался у ярких афиш. Делая вид, что целиком поглощен их созерцанием, он бросал быстрые взгляды на окружающих, чтобы убедиться, что за ним нет слежки. Но и афиши успевал с интересом разглядывать. С одной лихо глядел атлет в полосатом трико с закрученными усами, поднимающий фантастически тяжелые гири. С другой под размашистым словом "цирк" свирепо скалили свои пасти бенгальские тигры, на третьей, запрокинув голову с распущенными волнистыми волосами, смело декольтированная блондинка пела шансонетку. Почему он остановился у афиши, извещавшей о представлениях императорской оперы, он и сам бы сказать не мог. Просто потому, что надо было перевести дух в чужом и холодном, совсем еще незнакомом городе, где перед лицом роскоши и богатства он ощущал себя бесконечно малой пылинкой. Просто оттого, что устал.
Из афиши он узнал, что в здании императорского театра оперы и балета будет представлена опера российского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Наряду с известным всей России артистом Леонидом Собиновым в ней примут участив молодые дарования - старшекурсники Московской консерватории. Далее следовало традиционное перечисление действующих лиц и исполнителей партий.
Павел, никогда не бывавший в опере, равнодушно скользил глазами по афише и вдруг замер, словно пораженный громом. Вновь перечитал он фамилии исполнителей и прошептал:
- Якушев А. С.
Он мгновенно подумал о том, как много Якушевых на Руси, и нет ничего удивительного, что эту фамилию он встретил на афише, мимо которой мог бы сто раз пройти. Но инициалы совпадали, и это окрылило его непонятной надеждой. "А. С,- подумал он.- Это можно расшифровать и как Александр Сергеевич. Но откуда же? Брат Сашка никогда не пел, А ведь у настоящих певцов голос, вероятно, с самого детства прорезается?.."
Он долго разуверял себя, но ноги уже несли его в том направлении, в котором посоветовал разыскивать императорский оперный театр первый же прохожий.
Когда Павел постучал в окошко кассы, оно быстро приподнялось, и парень несколько оробел, увидев пожилого старика в расшитом золотыми позументами сюртуке.
- Простите, вы не скажете, как мне повидать артиста Якушева?
- Артиста? - засмеялся человек в окошке.- Да какой же он артист! Он пока что всего лишь выпускник консерватории. А станет ли артистом оперы, это еще будет видно. Сейчас у них завершилась репетиция, попросите кого-нибудь. Его найдут.
- Простите, а как его зовут? - нерешительно уточнил Павел.
Старичок заглянул в какую-то лежавшую перед ним бумагу и равнодушно произнес:
- Такс, тэкс... кажэтся, Александром Сергеевичем, если не изменяет память. Да, да, я не ошибся Точно, Александр Сергеевич.- И окошко захлопнулось, а у Павла гулкими толчками застучала в висках от волнения кровь.
В вестибюле толкалось несколько молодых людей. Павел приблизился к одному и спросил Якушева.
- Вам Якушева? - отозвался добрый голос.- Сейчас, сейчас. У нас окончилась репетиция, но он еще не выходил. Позвольте, да где же он запропастился? Саша, Саша!..- крикнул незнакомец, но в вестибюле никто не отозвался. Павел уже стал терять всякую надежду на встречу, как вдруг артист оживленно воскликнул: - Позвольте, да вот же он, по лестнице спускается! Ловите, пока не скрылся.
Павел оробело поднял голову. По той самой широкой лестнице с белыми мраморными ступенями, по которой ежедневно сотни людей поднимались в зрительный зал, в эту минуту спускался только один человек. Одетый в изящный черный костюм, модные туфли с длинными носами, он медленно переступал с одной ступени на другую, и по одному этому можно было догадаться, что человек о чем-то сосредоточенно думает. Несколько грузный, начинающий лысеть, с добрыми чертами рыхлого, полного лица, он ничем не напоминал Якушеву младшего брата, которому в свое время приходилось и манную кашу варить, и штанишки штопать, и мокрый нос старыми полотенцами вытирать, если в запасе не было чистых носовых платков.
Честное слово, если бы Павел полчаса назад встретил его на Невском проспекте или на улице любого другого города, он бы равнодушно прошел мимо. В довершение ко всему на мягком носу этого человека прочно сидело похожее на велосипед пенсне, так изменявшее внешность. Большой лоб с залысинами был прорезан полосками морщин, а губы сжаты в одну тонкую линию. Сняв пенсне, он близоруко вглядывался в спешившего навстречу человека. Но Павел, увидев его серо-синие глаза, встретив их такой родной взгляд, прыгал уже через две ступеньки навстречу, отбросив последние сомнения. Тот настороженно остановился:
- Вы, что ли, меня искали? - осведомился он без особого интереса.- Я вас, извините, не припоминаю...
- А вы из Новочеркасска? - срывающимся голосом спросил Павел.- Вы жили в маленьком старом флигельке на Почтовом спуске? Так ведь?
Пенсне задрожало в руке у спускавшегося по лестнице.
- Подождите, а вы?
- Да какого же черта! - выкрикнул Павел. - Неужели ты не узнаешь меня, братишка!
И тогда Александр Сергеевич бросился ему на шею, весь задрожал от смятения и, обняв, долго не разнимал своих рук.
- Уходим отсюда немедленно! - воскликнул он наконец. - У меня сегодня такой день, такой день!.. А вечером совершенно свободен. В "Астории" приличный номер предоставили. Так что до утра будем исповедоваться друг другу.
По пути они зашли к Елисееву. Александр, по-видимому решивший блеснуть своим гостеприимством, набрал вин и закусок. Извозчик подвез их к гостинице с особым шиком: из общего человеческого сословия он, вероятно, всегда выделял категорию людей среднего достатка, которые неожиданно обрели деньги или решили щедро угостить близкого. Александра он тотчас причислил к ним, еще раз подумав, что люди из этой категории и добрее всегда, и дают на чай больше.
Через какой-нибудь час братья сидели за богато накрытым столом. Номер с умывальником, платяным шкафом, кроватью, высоким окном и диваном отнюдь не производил впечатления фешенебельного, и от этого стол, заставленный тарелками, бутылками, бокалами и всевозможными соусниками, казался особенно обильным. Павел поймал себя на мысли, что еще никогда не сиживал за таким. Чего только не было на белой скатерти этого стола! Александр пичкал его, как мог.
- Возьми икорки, Павлик, восхитительная! Может, опа с нашего Дона, из Азовской дельты. А балычок белужий выше всяких похвал, так и тает во рту! Им рюмочку шустовского коньяку закусывать одно великолепие. Так и вспоминается ходячее петербургское изречение: "Выпьем рюмочку-другую шустовского коньячку!" Побалуйся малость. А я, извини. Завтра у меня партия в опере, и, знаешь, что случилось? Я и во сне такого не мог бы представить! Должен был выступать сам Собинов, но приболел. Произошла перестановка, и на мою долю партия юродивого выпала. И петь придетея на глазах у великого Собинова. Он в директорской ложе будет сидеть. Поэтому бокал шампанского с тобой я выпью, но не больше. Благо, оно не слишком холодное. А то у меня хрипы какие-то в груди иногда бывают.
- Да бог с ними, о твоим шустовским коньяком, шампанским и со всеми утонченными буржуйскими кушаньями! Если бы перед нами на тарелке были всего две картошки вареных да кус хлеба, разве от этого наша радость потускнела бы! - восклицал Павел с восторгом, вглядываясь в открытое лицо младшего брата. - Шутка ли сказать, в столичной опере, в лучшей нашей опере дебютируешь...
Александр сделал протестующий жест:
- Не торопись, Павлуша. Собственно говоря, я еще никакой не дебютант, всего лишь учусь на последнем курсе консерватории. Однако и это большая честь и победа.
- Еще бы! - засмеялся старший брат. - Но как все это произошло? Насколько я знаю, в нашем роду голосов никогда не было. Дед наш Андрей лишь дикие казачьи песни играл, да и то подсвистывал в основном. Отец на своем веку и вовсе ни одной песни не спел, мне тоже медведь на ухо наступил. Да и ты, когда на моей памяти пешком под стол ходил, соловьем тоже не заливался. И вдруг...
- Не надо об этом, Павлуша, - остановил его брат. - Давай лучпге выпьем за память об отце. Все-таки мы ему рождением своим обязаны и тем, что рода Якушевых продолжателями стали.
- Как? Разве он умер? - растерялся Павел. Брат с укоризною поглядел на него.
- Не знал, Саша, - ответил Павел. Он наклонил отяжелевшую голову, взялся ладонями за виски и горестно вздохнул. - Не знал, - повторил он. - Да и где ж знать! Слишком тяжелой была жизнь, чтобы показываться в Новочеркасске... У тебя залитая светом сцена оперного театра, а у меня аресты, ссылки, побеги и снова ссылки.
- Я догадывался, - взволнованно перебил его Александр. - Вскоре после твоего ухода из дома на шахты в Александро-Грушевск к нам жандарм приходил. Потом деньги рабочие приносили. Я еще учился в гимназии, не все понимал. Думал, ты кого-нибудь убил или ограбил.
Павел грустно усмехнулся:
- Братишка, да разве я похож на бандита?
- Нет, конечно, - смешался Александр, - однако бомбу в какого-нибудь губернатора ты бы мог бросить.
- Мог бы, Саша, если бы мне приказали, - твердо ответил Павел. - Но дело в том, что мы, большевики, отвергаем подобные методы борьбы с существующим строем. А что касается твоего вопроса, смог бы я убить врага или нет, одно могу сказать: наш знаменитый дед, спасший в восемьсот двенадцатом году боевое знамя, действительно убил ненавистного всем помещика Веретенникова. Но его же никто не считает на Дону бандитом.
Александр потер свой широкий лысеющий лоб.
- Понимаю, ты революционер и у тебя своя логика.
- Думай, что хочешь, - сдержанно ответил старший брат, - но как и когда ушел из жизни наш отец, расскажи.
Александр снял пиджак и повесил его в шкаф, словно ему стало очень жарко. Потом дрогнувшими пальцами расстегнул жилет.
- Очевидно, мы в этом виноваты. Сначала ты, потом я.
Павел молча опустил голову.
- Ты прав. Я покинул отца не в лучшие дни его жизни.
- А я! - горько воскликнул Александр. - Я еще хуже тебя поступил.
Павел слушал, и черты его лица, более резкие, чем у младшего брата, казалось, застыли, как на скульптурном портрете.
- В гимназии нашей, - продолжал Александр с той решительностью, которая вспыхивает в человеке, желающем поскорее выговориться до конца, чтобы освободить свою совесть от тяжелого груза, - был учитель математики Павел Павлович, которому показалось, будто у меня к этой науке феноменальные способности. Полагаю, что это не совсем так, но меня решили послать в Москву с ходатайством - до окончания гимназии допустить к экзаменам в университет. Даже пособие из атаманской казны определили, вспомнив о том, что я внук знаменитого героя Отечественной войны Якушева. И я поехал. Бросил старика по его же настоянию, совершенно беспомощного, поехал. Потом узнал, что наш отец скончался в нищете и одиночестве. Если бы не вдова его друга каменщика Изучеева, погибшего на строительстве собора, и не ее дочь Наденька, он бы по миру пошел с протянутой рукой... - Александр, закрыв ладонью глаза, всхлипнул. - Как вспомню ваше расставание на вокзале, как только вспомню... нет, я ни за что себе этого не прощу. Он же умер в абсолютном одиночестве и в бреду звал нас.
- Диалектика жизни, Саша, суровая штука, и ее на свой лад не переделаешь, - сказал Павел.
- Я тебя не понимаю...
- Да чего же тут понимать, - грустно возразил старший брат. - И тебе и мне надо было пробиваться, как говорится, "в люди", искать свою судьбу, а разве ее в том нашем маленьком флигеле можно было найти?
- Между прочим, старик наш тоже так считал, - тихо сказал Александр. - Он буквально выгонял меня из дома, когда мне предложили ехать в Москву.
Александр тяжело вздохнул.
- Как видишь, даже наш старик диалектиком был, - печально заметил Павел. - А теперь расскажи, как у тебя все дальше складывалось?
Александр поднял голову:
- Жизнь моя кое в чем действительно наладилась после приезда в Москву. В университет я не попал, в межевой институт меня приняли, и, представь себе, был там на хорошем счету. Работу по анализу бесконечно малых величин написал. На кафедре хвалили. А кипрегель, теодолит и нивелир в моих руках как скрипка пели.
- Это что еще за премудрость такая? - удивился Павел. - Неужто тебе одного тенора мало?
- Братик, - повеселел Александр, - это я образно попытался сказать, что пели. Ведь кипрегель, теодолит и нивелир ничего общего не имеют с оперным искусством. Это инструменты, с помощью которых измеряют поверхность земли.
- Это те, что на треногах? Землемерные? А я-то подумал! - захохотал Павел. - Слушай, Саша, да ведь у тебя кусок хлеба в кармане, если ты можешь землеустройством заниматься и карты всякие составлять. Значит, с учебой покончено и диплом с российским гербом у тебя на руках?
- Нет, брат,- покачал головой Александр,- самое трудное время сейчас наступило. Ведь я геодезию и математику бросил и недоучкой из института ушел. Долго рассказывать, но произошло самое неожиданное: голос у меня появился. Тенор. Сулят будущее, успех на сцене, гастроли. Я тебе на завтрашнее представление, контрамарку достану. Скажешь потом, как мой дебют выглядел. Шутка ли сказать, сам великий Собинов будет слушать! Даже страшно становится.
- Да ведь я-то судья какой, - вздохнул Павел, - кроме церковного хора да арестантского пения, никакой музыки не слыхивал. - Он перевел взгляд на фотографию, стоявшую на маленьком столике. Раньше были в моде такие фотографии, наклеенные на плотный картон, на обороте которых были оттиснуты и название города, где этот снимок был сделан, и адрес владельца мастерской.
- Разреши? - попросил Павел.
Брат, ни слова не сказав, кивнул. Павел взял со стола снимок. Пристально всмотрелся в профиль незнакомой девушки. Она сидела, подперев кулачком нежный подбородок. Возможно, фотограф долго искал наиболее выигрышную позу, а то и покрикивал на нее деспотически, дескать, не так сидите, не так держите голову, и это оставило на ее лице тень неудовольствия. Но даже и несколько сердитая, с короткой стрижкой и остроскулым лицом, с не очень высоким лбом и чуть прищуренными глазами, с ямочкой на щеке и мягким очерком подбородка девушка эта была очень привлекательна. Под снимком на сером картоне, справа от размашистых букв "Фотография Качинского", сохранилась надпись: "Милому Саше. Жди и верь".
- Это твоя невеста? - спросил Павел, отводя глаза от фотографии.
- Бывшая, - вымолвил брат.
- Почему?
- Потому что она теперь невеста другого, - печально закончил он. - Финита ля комедиа.
- Какая же это комедия, если тут драма, - взорвался Павел, которого вывело из себя убитое горем лицо младшего брата. Тот сидел, уткнувшись подбородком в белую накрахмаленную рубашку, побелевшие его губы не в силах были удержать тяжелого вздоха. - Какая же тут комедия! - зло повторил он. - Тут драться надо, кричать во весь голос, бить.
- С кем драться, кого бить... ее, что ли? - простонал Саша. - Да я ни единому волоску не позволю упасть с ее головы, и, если для нее этот самый саперный инженер, этот самый Ванечка Загорулько, лучше меня, пусть поступает, как хочет, лишь бы она была счастлива.
- Нечего сказать, - проворчал Павел, - полное непротивление злу. Как хоть ее зовут, если не секрет?
- Надежда Изучеева.
- Погоди, погоди, - присвистнул от изумления Павел,- так это и есть дочь того самого каменщика Изучеева, с которым подружился наш отец?
Александр молча кивнул, и старший брат понял, что больше расспрашивать не надо. Он изменил тему разговора, стал интересоваться успехами брата в оперном искусстве, о котором сам не имел ни малеишвго понятия, потому что никогда еще в своей трудной и беспокойной жизни профессионального подпольщика оперных театров не посещал и, чем отличается тенор от баритона, не знал, а лирический тенор от драматического - тем более. Лишь отрывочно было ему известно, что есть теперь на Руси великий певец Шаляпин, мужицкий сын, которого признал весь мир, а имена Собинова, Неждановой и других корифеев сцены были ему неведомы вообще.
- По-моему, ваша опера - это искусство для избранных, а не для народа. Для тех, которые водочку-то закусывают не огурцами и черным хлебом, а устрицами.
- Устрицами водку не закусывают, - возмутился Александр, и большой его лоб побагровел от негодования. - Дурак ты, Пашка. Смотри своему Ленину не скажи о том, что опера для избранных, а не для народа. Он тебе за такие слова по шее надает.
- Вот еще! - огрызнулся старший брат. - Ленин за пролетариат, а твоя опера для одних буржуев предназначена.
Александр справился с порывом негодования и рассмеялся.
- Дурак ты, еще раз говорю. Вот послушаешь завтра оперу во всем ее блеске, потом и судить будешь, на кого такая красота рассчитана. Мне кажется, на умных, тонких в своих чувствах людей, способных понимать подлинное искусство. А кто они - значения не имеет. Именно для всего народа оперное искусство и рассчитано. Придет время, когда в каждом большом городе оперный театр будет построен.
- Да ну! - недоверчиво воскликнул Павел. - Надо будет у Фрола Иннокентьевича спросить, так ли это. Может, и я в какой уклон впал.
- А кто такой Фрол Иннокентьевич? - в свою очередь озадачился Александр.
- О! - обрадовался тому, что он в чем-то может быть более осведомленным, чем брат, воскликнул Павел. - Это, друг ты мой, голова! Он же саратовский университет кончал, все знаменитые книги, какие только есть на свете, им перечитаны. И уж что-что, а про оперу должен вот как знать! - Павел ребром ладони провел по своему кадыку.
Александр всматривался в лицо родного брата, думал о нем. Как его ожесточила жизнь! Сколько он перенес правого и неправого! Зачем он встал на эту опасную тропу революционера-подпольщика?
- Паша, - заговорил Александр просительно, - а почему ты не приобретешь никакой профессии? Ведь служить делу революции, в которое ты так веришь, было бы гораздо легче, если бы ты был, ну кем, скажем? Ну, допустим, врачом, учителем, инженером.
Павел гулко рассмеялся:
- Спасибо за науку, братишка, только ты опоздал. Когда пролетарская революция победит, я не буду в нахлебниках ходить у народной власти. Знаешь, сколько университетов я прошел? Во время высылки в Вятскую губернию плотницким делом овладел, да и у краснодеревщиков кое-что позаимствовал. А когда в Бутырках сидел, столько приходилось с соседями по тюремной азбуке перестукиваться, что могу царского министра по этим делам заменить, и царю Николашке не будет от этого хуже. Смекаешь? Да и в качестве забойщика я в состоянии на хлеб и молочишко заработать. А главная моя профессия, сам понимаешь, какая: служить революции до последнего удара пульса.
- А если революция не победит? - тихо спросил Александр. Спросил и с беспокойством поглядел на старшего брата, опасаясь, что тот вспыхнет, нагрубит, ударит кулаком по столу, да так, что затрясутся тарелки с дорогими закусками и перевернутся рюмки с недопитым шустовским коньяком. Но этого не произошло. Павел поднял на него взгляд, с волнением сказал:
- Этого не может быть. Разуй свои глаза, братишка. Сними свое пенсне, если оно тебе мешает. Или ты не видишь, что сейчас делается вокруг? Нас теперь не сотни и не тысячи. Нас уже миллионы.
- Миллионы полуголодных и сирых?
- Сегодня - да, - сверкнул глазами Павел. - Но завтра мы станем другими, ибо будущее за угнетенными массами. Ты не обессудь, что я с тобой как на сходке говорю. На наших сходках много мудрых вещей перед их участниками открывается. Вот почему не боюсь я ни новых тюрем, ни допросов, ни пыток. Ты не веришь в наше дело. А почему? Неужели тот достаток, который ты имеешь, твоя возможность носить черный фрак, лакомиться балыками и черной икрой заставили тебя забыть прошлое нашего казачьего рода, бунтаря-деда, разорившегося несчастного отца, которому мы даже последние дни не могли скрасить? Или для тебя всего важнее пословица "сытый голодного не разумеет"? Нет, ты скажи, не виляй, - наступал Павел.
Но младший брат, подняв па него поблескивающие под стеклами пенсне глаза, упрямо возразил:
- Насчет деда-бунтаря ты это зря. Он прежде всего был преданным слугой атамана Платова, впоследствии получившего от царя графский титул. А ведь вы сейчас требуете уничтожать всех графов и атаманов.
- Чушь! - выкрикнул Павел. - Вульгарный анархизм, и не больше. Во-первых, партия большевиков никогда так вопрос не ставила, а во-вторых, о нашем деде ты тут сказал неверно. Не был он холуем Платова. Слугой отечества он был, так же, как и сам Матвей Иванович Платов, между прочим. Ты его на одну доску с нынешними царскими генералами не ставь. С теми, которые мирные демонстрации расстреливают. Да и тех казаков донских, что наполеоновскую армаду сокрушили, не сравнивай с нынешними, которые нагайками мирных людей секут. Темный ты человек, братишка, хотя и "кармен" всяческих поешь.
Павел посмотрел в окно. Над Петербургом металась метель. Снег валил на широкий Невский проспект, по которому, подняв воротники, шли люди: богатые и бедные, чиновники и бесшабашные купчики. Подтянутые, словно влитые в шинель офицеры и совсем юные прапорщики. Спешили озябшие студенты, и часто по одной походке можно было определить, богатый или бедный идет человек. Люди с достатком, вышедшие подышать вечерним морозным воздухом, передвигались неспешно, с достоинством. Бедные, обремененные своими заботами и делами, пробегали быстро, умело лавируя в густой толпе, чтобы не дай бог не задеть даже легонько какого-нибудь статского советника, преуспевающего купца, а то и генерала.
Павел перевел взгляд на щедро накрытый стол, отметил, что брат с вожделением намазывает черной икрой хлеб. "Бедняга, - усмехнулся он про себя, - вот что значит прожить голодное детство. Появилась возможность, и он никак не может наверстать упущенное".
- А ты, оказывается, лакомка, - дружелюбно усмехнулся он и кивнул на бутылку.
- Выпьем чарочку-другую шустовского коньяку, - весело продекламировал Александр.
Брат не заставил себя ждать. Обтирая губы тыльной стороной ладони, он крякнул, как и всякий заправский мастеровой, и нацелился вилкой на балык.
- Паша, - бодрым голосом спросил Александр, - а что вот ты думаешь по поводу всяческих прогнозов исхода войны с японцами? Что об этом говорят в ваших политиче
ских кругах? По-моему, доблестная русская армия расколотит самураев без труда,
Гость скатал из хлебного мякиша шарик, положил его в, рот, демонстрируя тем самым брату свою полную невоспитанность.
- Я не оракул, - ответил он лениво, - и пророк из меня никудышный. Говорят, однажды великий полководец должен был со своим войском переправиться через большую реку, чтобы сразиться с очень сильным врагом. Понятное дело, он изрядно волновался и, решив заручиться поддержкой, подъехал к знаменитому оракулу и спросил: "Скажи мне, мудрейший, одержу ли я победу?" А оракул ответил: "О воин, одно могу тебе предречь: перейдя реку, разрушится большое царство". Полководец решил, что одержит доблестную победу после такого предсказания. Ринулся он в бой, а ему так дали, что еле ноги унес с оставшейся половиной войска. Разыскал полководец мудреца, занес над его головою меч и заорал: "Отвечай, почему мне солгал, иначе голову отрублю!" А мудрец ответил: "Я говорил тебе правду, воин. Ты перешел реку, и наше царство разрушилось".
- Странно, а я этой истории не знал до сих пор. - Александр засмеялся и посерьезнел: - Знаешь, брат, не обижайся. Я сначала воспринимал тебя как обычного, нигде не учившегося мастерового, а теперь убедился в своем заблуждении. Ан ты не такой. Ты без университетов образовался.
- Да уж какие там университеты, - горько вздохнул Павел. - Мне часто приходится вращаться среди таких мудрых людей, до которых умом своим никогда не поднимусь. Ну, а насчет японской кампании выскажусь так: рано говорить "шапками закидаем". Как бы не пришлось зады показывать неприятелю. Царь наш дурак. Министры, которые его окружают, готовы торговать Россией, объявляя себя выдающимися патриотами. Народ в нищете и озлоблен на царское правительство неимоверно. Солдат устал от муштры и отнюдь не горит желанием лезть в окопы.
Александр сердито покачал головой:
- Извини, тут я с тобой не согласен. Николай Александрович далеко не дурак, хотя и не Петр Великий, разумеется. Однако воспитанный человек. Я его собственными глазами видел однажды на прогулке. Он весьма обаятелен и скромен в своей полковничьей шинели. Он бы мог себе и звание генерала принять. А он...
- Эх ты, - прервал брата Павел, - черное от белого отличить не можешь. Дерьмо твой царь. И всего-то им талантов было проявлено, что он лучших сынов России по тюрьмам да каторжным местам рассовал. А ты нашел идола, которому поклоны отбиваешь... Да пошел он...- И Павел смачно выругался.
- Ладно, - примирительно согласился Александр. - Ну а ты-то сам как смотришь на исход войны с японцами?
- Да чем скорее самураи нашим войскам шею намылят, тем будет легче.
- Но ты же русский человек, Павел!-возмутился брат.- Как же ты можешь радоваться поражению нашего флага?
Павел весело глянул на него.
- Смотри-ка! Эка тебя стало корежить. Ну и глубоко же он сидит в твоем теле, братишка, этот самый патриотический угар. Царя тебе жалко, поражения флага жалко, а обо всех расстрелянных и загубленных под этим флагом ты подумал? О разорившихся и обнищавших, о таких же голодных, каким и ты был в Новочеркасске? Действительно, сытый голодного не разумеет. Посмотри лучше на великолепный Невский проспект. Гоголь хорошо его в своем сочинении описал. Таким этот проспект и по сей день остался. Там наше самодовольство и чванство да буржуйская сытость разгуливают, против которых подлинные сыны отечества борются.
- Такие, как ты? - перебил его Александр вопросом. Павлу почудилась в этих словах ирония, и он вскипел.
- Да, и как я! - сердито воскликнул он. - Вся моя жизнь к этому теперь сводится. Хватит! Насмотрелся я на беззакония настолько, что ныне и свою голову за правое дело не страшно сложить, зная, что товарищи твои доведут его до конца. А про японцев что могу сказать? Поражение в этой войне царизма нам, революционерам, лишь на пользу пойдет. Почему, спросишь? Да потому, что медведя-подранка большевикам во главе народа русского легче валить будет. Слушай меня да думай.
За окнами совсем стемнело. Снег мириадами холодных жестких звездочек кружился вокруг уличных фонарей. Павел достал из кармана часы-луковицу, отщелкнул крышку:
- Ого, позднота-то какая! Пора мне и уходить.
- А зачем? Оставайся,- предложил Александр. - Кровать, видишь, какая широкая. Сколько мы с тобою в детстве на одной узенькой с железными прутьями спали? Так неужели же одну ночь на широкой не выспимся? Я тебя пятками лягать не буду, как в детстве.
- Спасибо, - потеплевшим голосом откликнулся Павел. - В детстве ты действительно, как верблюд, во сне лягался. Однако у тебя я не останусь. Мне на Васильевский остров нужно. Да притом и паспорт у меня ненадежный.
- Тогда тем более не ходи! - встревоженно воскликнул Александр и без всяких колебаний решительно закончил: - Ни за что не отпущу тебя. Ночью столько жандармов и сыщиков болтается по городу, а утром ты в толпе незаметен.
- Смотри-ка, - засмеялся Павел, - а ты ведь совсем как стреляный подпольщик рассуждаешь. Ладно, правда твоя. Останусь!
Когда старший брат стал раздеваться перед сном, он аккуратно повесил в платяной шкаф куртку и простенький черносуконный пиджак, предварительно ощупав подкладку, что не укрылось от Александра, понявшего, что под нею зашит какой-то секретный пакет. Юфтовые сапоги Павел поставил в угол, а перед тем, как снять с себя брюки, вынул из них маленький, отливающий вороненой сталью браунинг и молча положил на тумбочку рядом с изголовьем. Перехватив взгляд, улыбнулся:
- Я ведь теперь без этой штуки не хожу. Видишь, кого ты впустил на ночлег.
- Все-таки родного брата, - обиделся Александр.
Снимая теплую нижнюю рубаху, Павел заголил на мгновение спину. Александр увидел синеватые шрамы на теле брата.
- Что это? - спросил он испуганно.
Павел усмехнулся:
- А это меня служители твоего деликатного, скромного царя в полковничьей шинели так разукрасили на допросах. Ну как? Производит впечатление?
Засыпая и чувствуя рядом с собой сильную, твердую спину Павла, Александр думал о том, каким суровым сделал брата образ его жизни и какие они с ним разные по существу своему. Мысленно он корил себя гораздо больше, чем Павла. "У брата идея и ясная цель. Прав он или не прав, но идет вперед по прямой. А ты? К имущим ты не причалил и не причалишь, как парусник не может причалить в бурю к скалистому берегу. Где же тогда твои идеалы, Александр? Хоть себе ответь на этот вопрос". Но, как он ни пытался, ответа найти не мог.
Вечером следующего дня Павел впервые побывал в самой лучшей российской опере. С первого ряда балкона сцену было видно достаточно хорошо, к тому же Александр вооружил театральным биноклем. Перед началом брат познакомил его с выпускниками консерватории, исполняющими в "Борисе Годунове" небольшие роли. К Александру они относились почтительно, и это наполнило Павла гордостью за брата. Он уважительно пожал руки трем юношам и одной бледной худенькой девушке, хотя они не пробудили в нем особого интереса. Но когда занавес был поднят и Павел увидел их облаченными в костюмы, они показались ему существами, как бы пришедшими из другого мира - мира звуков и красок, мира радостей и трагедий. Он был попросту потрясен и захвачен музыкой Мусоргского. То и дело прикладывая к глазам бинокль, он напряженно искал своего брата среди статистов и хористов, но не находил. Даже не обратил внимания на раздавшийся рядом шепот:
- Юродивый, юродивый... посмотри в программку, кто поет.
Обвешанный веригами юродивый прошел по сцене и сел в своем железном колпаке у ярких декораций, изображающих площадь перед собором в Москве. И вдруг будто струну самую тонкую кто-то задел - раздался полный терзания и боли голос: "Взяли мою копеечку, обижают Николку. Борис, Борис, Николку дети обижают". Появившийся царь величественно приказал своим опричникам подать юродивому милостыню и спросил, о чем тот плачет. Замерла площадь от длительной паузы, и тот же самый жалостливый голос, но уже осмелевший и неожиданно для всех прозвучавший, сурово обжег слух зрителей:
Николку маленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.
Бояре пытаются прогнать юродивого, но пошатнувшийся царь, схватившись за сердце, делает отвергающий жест и печально просит:
Молись за меня, бедный Николка.
Но уже совсем по-иному, с бунтарской силой звучит ему вослед голос юродивого: "Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода - богородица не велит!"
Что-то безумно знакомое послышалось в этом надрывном пении, и вдруг, позабыв, что он находится в театре, Павел хватил себя ладонью по лбу. А потом ладонь сползла и прикрыла глаза, налившиеся слезами. "Бог ты мой! - воскликнул про себя Павел. - Да как же это я не узнал в живописных лохмотьях своего Сашку! Ведь это же он, паршивец, так спел, и это ему грохочет аплодисментами весь зрительный зал".
Поздно вечером в гостиничном номере усталый Александр взволнованным голосом спросил:
- Паша, ну как?
- Слушай! - воскликнул восхищенный брат. - Да ты же сегодня от имени этого самого, нищего к революции в театре призывал! Если бы ты про царя Николашку так спел, за тобой бы толпы на баррикады пошли. Может, Собинова из тебя и не получится, но тянешь ты хорошо.
- Спасибо за комплимент, - улыбнулся Александр, - а что касается Собинова, так до него мне, как бы хорошо ни тянул, никогда в жизни не дотянуться. Он на всю Россию у нас один после Шаляпина. - Голос у брата потеплел, и он прибавил: - А ты знаешь, Павлик, у нас в консерватории однажды "Кармен" силами слушателей ставили, так я всю партию Хозе от начала до конца исполнял. И ничего...
- Молодец, - одобрил брат и вдруг, охваченный радостью, воскликнул: - А знаешь, Сашка, я и не думал, что опера - это такое волшебство. Как жаль, что раньше не мог об этом судить. Украли молодость у меня. Лучшие годы украла бедность сермяжная.
- Что ты! - прервал его Александр. - Ишь старик нашелся. У тебя ведь вся жизнь впереди.
- А я этого не отрицаю. Однако у тебя ее больше, потому как на целых два года ты меня моложе будешь. И честь тебе какая, в лучшем театре Питера аплодисменты заработал. Ведь ты же в историю уже попал на всю Россию род наш, Якушевых, прославил.
Александр остановился посреди комнаты.
- Стоп, стоп, а ведь ты действительно сущую правду сказал. Вот теперь за это и выпьем по бокалу шампанского!
Поблагодарив Александра за гостеприимство, Павел собрался уходить: на явочной квартире на Нарвской его уже ждали. Братья крепко обнялись на прощанье и даже всплакнули, потому что не знали, когда встретятся снова.
Цокали копыта буланого жеребца по булыжникам мостовой, приближая Павла к углу Платовского просггекта и Барочной улицы. Якушев с волнением разглядывал знакомые и незнакомые дома, серое угловое здание фаслеровского завода, сотрясаемое ударами огромного молота. И снова неизбывной радостью наполнялось его сознание, острое чувство волнения и печали, рождаемое встречей с родным и всегда дорогим его сердцу городом, захлестывало его.
Это был город его отца и деда, и брата Александра, проживающего теперь на углу Барочной и Аксайской, по данным адресного бюро, с которым Павел списался еще перед назначением в местный гарнизон. Полуголодным мальчишкой уходил он в суровый вечер отсюда на заработки, оставляя в одиночестве отца и меньшого брата. Лихим командиром кавалерийского полка с двумя боевыми орденами и шпалами в петлицах возвращался сюда теперь.
А родной брат Александр? Кто он сейчас и как живет? Женат или холост, народил, детей или нет? Стал ли оперным певцом или зарабатывает свой хлеб геодезическими работами? Ведь около четверти века не знали они ничего друг о друге. Ничего ровным счетом. А сколько за это время воды утекло, какие великие изменения произошли на земле российской! С кем был его брат в этой войне - с белыми или красными? Может, и прав был комиссар Тарас Карпович, утверждавший, что лишь на две категории делится все человечество: на тех, кто за революцию и кто против нее.
Посылая запрос в адресное бюро Новочеркасска, Павел Сергеевич просил неизвестного ему заведующего хотя бы вкратце сообщить все, что тот знает о брате. Даже для пущей убедительности и подписался на том запросе: командир полка, орденоносец. Возможно, это и помогло. Ответ из Новочеркасска был лаконичным, но довольно конкретным: "Сообщаю, что брат ваш, Якушев Александр Сергеевич, проживает по улице Барочной, номер пять дробь сто сорок, в отдельном домовладении. От воинской повинности в годы гражданской войны освобожден по состоянию здоровья. С уважением". Далее стояла чуть размазанная подпись.
Получив такой ответ, Якушев попросил управление кадров перевести его из Таврии, где он после изгнания остатков врангелевских войск долечивался в военных госпиталях, а потом был начальником штадива, куда-нибудь поближе к Новочеркасску и был несказанно рад, когда получил короткую телеграмму: "Вы откомандированы в распоряжение СКВО на должность командира кавполка".
Так он снова очутился в родимом Новочеркасске много лет спустя после того, как пятнадцатилетним мальчишкой ушел отсюда искать свою дорогу в жизни.
Сидя в седле прямо, как и всякий опытный наездник, он задумчиво смотрел вперед. Улица выгибалась горбом перед резким снижением. Конь, будто угадывая, что всадник о чем-то задумался, ступал медленно, а один раз даже остановился в нерешительности. Это произошло против двухэтажного высокого каменного здания с зарешеченными окнами. Из открытых форточек вразнобой доносились громкие выкрики, несвязное бормотание, смех. Мужчина в холщовом, не первой свежести белье истошно кричал с первого этажа: "Эй, Буденный, зачем усы свои сбрил?" "Дай закурить, товарищ", - просил другой, более миролюбивый голос. А со второго этажа кричали женщины, прильнувшие к решеткам. Одна, рыдая, утверждала, что ее ребенка живым зарыли в могилу, другая обещала как следует приласкать, третья жалобно вымаливала папиросу. "Боже ты мой, - вспомнил Павел Сергеевич, - да ведь это и есть знаменитая донская психиатрическая больница, Барочная, тринадцать, как ев тут называют, известная на весь наш Дон".
И он подумал о том, сколько горя нашей земле принесла жестокая гражданская война, сколько спаленных домов и улиц осталось после нее в городах и селах, сколько людей от одного тифа было предано земле, сколько душ загублено белогвардейцами на его родимом Дону, сколько слез выплакано отцами и матерями. И ничего в том нет удивительного, что полна теперь эта мрачная больница людьми, не сумевшими пережить кровавых расправ над детьми своими, матерями и отцами, вот и оказались теперь они за этими решетками невесть на сколько дней и ночей.
Цокали копыта буланого коня, увозя всадника от здания больницы, заставившей дрогнуть сердце даже видавшего виды рубаки. На Кавказской улице, пересекавшей Барочную, он на минуту остановился, залюбовавшись видом, открывавшимся впереди. Круто спускавшаяся улица обрывалась внизу у врытого в землю столбика. Слева желтел срезами глины небольшой бугор, а впереди, до самого горизонта, расстилалось займище, покрытое водой.
Разлив спадал, из воды то тут то там торчали кусты куги, несколько лодок и баркасов бороздили Аксай. А на расстоянии какой-нибудь версты от берега уже веселыми зелеными проталинами просматривалась земля, жадно ловившая солнечное тепло после долгого пребывания под водой.
Павел Сергеевич каблуком тронул застоявшегося копя, и буланый жеребец с очень стройными красивыми ногами гордо двинулся вниз к обрыву. Еще издали Якушев отыскал глазами угловой дом на правой стороне с низом из камняракушечника и верхом, обшитым досками, выкрашенными в коричневый цвет. Над красной жестяной крышей высилась кирпичная труба. Подворье было обнесено обветшалым забором, разделенным каменными тумбами. Над парадной дверью дома на железных фигурных опорах провисала дряхлая ржавая крыша. От ветров и дождей краска на ней облупилась. "Да, не слишком-то ты, Саша, рачительный хозяин", - усмешливо подумал старший брат. Ставни на окнах дома были распахнуты, и это внушило Якушеву надежду, что живые люди тут есть. Он подъехал на коне к самому парадному, протянул руку к звонку, повернул несколько раз рычажок из потускневшей меди. Хриплый треск тотчас же рассыпался за дверью. До Павла Сергеевича донесся недовольный женский голос:
- Саша, не слышишь, что ли? Звонят же. Открой.
- Иду, иду, - послушно ответил мужской голос, настолько знакомый, что Павел ощутил, как волна радости захлестывает его. "Значит, братишка жив и никакая дурная сила его не взяла за эти годы".
Звякнула выброшенная из своего гнезда цепочка, глухо лязгнул засов, дверь распахнулась, и на пороге он увидел совершенно лысого, небритого человека в серой сатиновой косоворотке и помятых, забрызганных известью черных грубошерстных брюках. Огромный лоб его был прорезан складками. Сипло дыша, он поднял глаза и отпрянул от удивления, увидев на пороге коня, а в седле - военного со шпалами в петлицах. Его ошеломленность была настолько велика, что с минуту он глотал раскрытым ртом воздух, прежде чем, запинаясь, выговорил:
- Однако... однако ко мне подобным образом еще никто не являлся. Вы... вы, собственно говоря, к кому?
Павел оглушительно захохотал. Корчась от смеха, он упал на гриву коня, потом снова выпрямился в седле я схватился за живот, продолжая смеяться.
- Сашка, да ведь это же я!
- П-п-позвольте, но я вас не имею чести знать! - с растущим недоумением воскликнул хозяин дома.
- Да иди ты к черту со своею старомодной честью, - соскакивая с коня, проговорил всадник и, растопырив руки, пошел навстречу. - Сашка! Неужто не узнаешь? Неужто ничего прежнего в моем облике не осталось? Да ведь я же твой брат разъединственный, Пашка Якушев!..
Что-то дрогнуло на рыхлом лице открывавшего дверь, судорожной волной промчалась по нему радость. Он бросился навстречу, повис на твердых, мускулистых руках Павла Сергеевича и долго рыдал, не отрывая от его плеча упавшей головы.
- Ну ладно, ладно, - унимал его Павел, - перестань, а то уже и я начинаю всхлипывать не к месту.
Вытирая глаза, братья отошли друг от друга, и Александр, тяжело отдышавшись, вдруг ясным и чистым голосом прокричал в глубину коридора:
- Наденька! Милая Наденька, да куда же ты запропастилась? К нам гость, и ты никогда не угадаешь кто. Спеши к нам, Наденька...
На пороге появилась моложавая женщина в черно-белом клетчатом платье, какие были модны во времена нэпа. На щеках немного веснушек, отчетливо обозначенные ямочки. Белый слоновый гребень в коротко стриженных волосах. Эта прическа и вовсе ее молодила. Карие глаза остро смотрели на неожиданного гостя, а губы вздрагивали в улыбке, выражающей учтивость хозяйки, но отнюдь не радушие. Чуть поклонившись, она мягко пошутила:
- А к нам еще никто не пытался через парадное въехать на коне. Вы- первый. Вероятно, это добрый знак.
- Разумеется, добрый. Клянусь честью красного кавалериста, что добрый! - вскричал неожиданный гость.
Женщина во все глаза смотрела на Павла Сергеевича, и взгляд становился все веселее и веселее.
- Наденька! - закричал Александр Сергеевич, к которому в эту минуту наконец-таки возвратилась способность ясно выражать свои мысли. - Жена моя дорогая! Ты и представить себе не можешь... Да ведь это же Павлик, брат мой родной и единственный!..
Лицо у женщины вспыхнуло.
- Это правда? - пораженно прошептала она. - Это вы и есть? Я же и подумать не могла, что стану свидетельницей такой встречи. - Она радушно протянула Павлу обе руки, он неуверенно взял одну из них и поцеловал.
- Саша, ну что же ты стоишь, как памятник! Веди немедленно Павла Сергеевича в дом, - смущенно распорядилась она.
- А Зяблика моего как? - вдруг заволновался гость. - Мы с ним никогда не покидаем друг друга.
- Вот не подумала, - весело рассмеялась хозяйка. - Ничего, найдется у пас и для Зяблика место. Двор большой, а в сарае и сена порядочно. Однако через коридор он не пройдет.
- Через коридор! - захохотал Павел. - Вы собирались провести моего Зяблика через коридор? Нет уж, увольте. Богу богово, как говорится, а кесарю кесарево. Мы лучше ворота для такого парада откроем.
- Павлик, - грустно прервал Александр, - а ты своего коня назвал Зябликом в честь того, который нашему деду Андрею верой и правдой служил?
Гость грустно кивнул.
- Угадал, братишка. Пока я метался по фронтам и то против Деникина дрался, то на самого Врангеля в сабельные атаки ходил, у меня сменилось три Зяблика.
- То есть как это? - пришел в замешательство Александр Сергеевич.
- А очень просто, Саша, - печально пояснил старший брат. - Одного из них беляки убили прямо подо мной, мы тогда под Касторной дрались. Я второго тоже Зябликом назвал. Но и его на Сиваше кусок свинца не обошел. А этот, буланый, живуч оказался. Даже с поля боя однажды вынес меня, раненного, лучше любой сестры милосердия.
- Как же это? - застыв от изумления, спросила жена Александра.
- Весьма просто, - бросив на нее добрый взгляд, пояснил гость. - Снаряд рядом со мною разорвался, и меня из седла вышвырнуло. Лежал я на земле и уже с жизнью своею прощался. И вдруг вижу, что этот самый Зяблик склонился надо много, в щеку шершавым языком лизнул. И будто без слов меня зовет: дескать, садись, спасу. Взобрался я на него кое-как, мешком поперек седла лежу, совсем как на той картинке, где изображено, как горцы невест крадут. От боли адской шевельнуться не могу. Только слышу, как стучат его копыта по земле, от пороховой гари провонявшей. Так и вынес меня к своим с поля боя. Если разобраться, ему бы за это орден Красного Знамени полагался, а ношу-то его я. Видишь, какая разница между конем и всадником.
Конь, наклонив голову, косил желтым глазом, будто все понимал.
- Ладно, Саша, - сказал Павел Сергеевич, - отворяй-ка ворота, а я с улицы заведу Зяблика.
Потом хозяин дома через полутемный зал провел его в свой кабинет - маленькую комнатушку, выходившую на Барочную улицу единственным своим окном, и велел садиться. Павел увидел кресло за широким письменным столом и единственный стул с прямой спинкой, обитой зеленым плюшем. Все остальное пространство занимали два огромных шкафа до потолка, уставленные книгами. В одном углу за изразцовой голландкой стояла берданка. В другом - желтый ящик с теодолитом и тренога. Стол был завален раскрытыми книгами и маленькими, в красных коленкоровых переплетах, вспомогательными словариками для перевода на русский язык с английского, французского, немецкого, греческого и даже санскрита. И еще в блюдце, стоявшем па середине письменного стола, высилась горка непонятно какого табака. Его запахом были пропитаны и переплеты книг, и зеленое сукно, и все вокруг. Александр указал старшему брату на свое кресло, но тот отрицательно покачал головой:
- Хозяйское место. Я сюда. - И сел на стул.
Оставшись наедине, братья пристально рассматривалидруг друга и улыбались. Им было так хорошо, что слов но требовалось. Павел про себя отметил, что брат его сильно поддался времени. Зачеса у него уже не осталось совершенно, кожа за ушами стала пергаментной, как у многих пожилых людей. Несбритая щетина на щеках и подбородке отливала сединой. Будто перехватив его взгляд, Александр Сергеевич провел ладонью по подбородку, смущенно извинился:
- Уж прости меня, Павлик. Не ожидал... вот и побриться с утра не удосужился. Мы же совсем недавно этот дом приобрели. Всего за тысячу рублей - с флигельком, сараем и двором огромным. Вот и убиваем теперь все свободное время на переустройство. У меня же до этого дома никогда еще не было клочка земли собственной.
Он глядел в упор на старшего брата и про себя любовался им. Лицо у Павла было ни молодым, ни старым. Это было лицо много повидавшего на своем веку, решительного и доброго человека. Оно не отражало ни жестокости, ни властолюбия, ни стремления полюбоваться собою или тем более с намеренной иронией отнестись к окружающим. Шапка густых, зачесанных назад волос с редкими проблесками седины возвышалась над высоким лбом, еще совершенно свободным от морщин и складок. Серые с синевой глаза смотрели пытливо и прямо, губы были поджаты, отчего все лицо казалось несколько строгим. Однако, когда Павел Сергеевич улыбался, выражение строгости слетало с его лица и улыбка была обезоруживающей, смущенной, будто он за что-то извинялся перед окружающими, за какой-то поступок, ведомый лишь ему, но не другим.
- Какими же тебя ветрами в родной Новочеркасск задуло? - первым заговорил Александр Сергеевич, чтобы хоть как-то начать разговор. Брат улыбнулся, ответил просто:
- Военными, Саша. Военными. Две недели назад получил назначение на должность командира кавполка, в здешний гарнизон, вот и прибыл.
- И две недели не заходил! - Лысая голова Александра Сергеевича укоризненно закачалась. - Нечего сказать, хорош.
- Прости меня, Саша, не сумел выкроить время. Жесткая у нас, у военных, служба.
- Помилуй бог! Умом твои слова приемлю, а сердцем нет. Понимаю, что ты теперь большой человек, командир целого полка, шутка ли сказать, и тебе было нелегко вырваться. Однако, признаюсь, я и думать не мог увидеть своего старшего брата вот в этом наряде, - кивнул он на его гимнастерку со знаками различия.- Ты же ведь старший комсостав.
- Старший, - подтвердил добродушно Павел Сергеевич.
- И, если не секрет, как же все это случилось? Помнишь, мы с тобой виделись в последний раз в Петербурге?
- Еще бы, такое не забывается, - подтвердил Павел, - тем более если родным братьям отпущено судьбой так редко встречаться. Думаешь, я забыл, как ты меня балыками и шустовским коньяком угощал? А на другой день ты на глазах великого Собинова на сцену императорского театра выходил. Я с балкона тебя слушал. Как ты прекрасно тогда юродивого в "Борисе Годунове" спел! Кто же такое может забыть, братишка! Я тогда профан профаном был. Даже что такое опера, не знал толком. Помнишь, какую тираду закатил о том, что опера - это искусство не для народа?
- А из театра в гостиницу возвратился с таким восторженным чувством, словно в раю побывал...
- Нет, - покачав головою, возразил Павел. - Для меня опера выше всякого рая показалась. И ты, Саша, совсем другим предстал в моем воображении. Я потом на каждой тумбе афиши оперных театров просматривал и все твою фамилию... нашу фамилию, Якушевых, искал.
- А теперь удивляешься, что видишь меня таким здесь? - дрогнувшим голосом спросил младший брат, и взгляды их встретились: грустный, убегающий в сторону взгляд Александра и жесткий Павла.
- Да, - подтвердил Павел сурово. - Может, я чего-то недопонимаю, но удивляюсь.
Александр Сергеевич забарабанил пальцами по письменному столу.
- Да, лучше сразу, - сказал он наконец отрывисто. - Пока мы одни.
- Говори, - придвинулся к нему Павел.
- Я потерпел жестокое поражение, дорогой братишка.
- Тебя не признали талантливым?
- Нет. Все гораздо суровее и проще. Ты помнишь последние годы жизпи нашей матушки Натальи Саввишны?
- Еще бы! Как же я могу их забыть! Я ведь был постарше тебя и понимал побольше.
- Значит, ты сохранил в памяти, как она будила нас ночью своим отчаянным кашлем, таким страшным, что нам казалось, будто она вот-вот умрет? Мы становились рядом с плетеным креслом, в котором она сидела, вся желтая и обмякшая, и в один голос ревели: "Мамочка, не умирай". А кашель бил ее так, что она не могла нас утешить, сказать несколько успокаивающих слов.
- Да, брат, - вздохнул Павел Сергеевич, - бронхиальная астма - болезнь очень страшная. Исцеления от нее нет.
- Нет, - тихо согласился младший брат, и его лысая голова безвольно упала на сцепленные перед ним на зеленом сукне стола руки. - Но тебе об этом судить трудно.
- А тебе? - воскликнул Павел, пораженный внезапной догадкой. - Значит, ты...
- Да, Пашенька, да! - глухо проговорил Александр Сергеевич. - И как я рад, что тебя это миновало. Первый приступ я перенес на другой день после того, как ты меня покинул в Петербурге. Я еще не понимал, что это такое. Полагал, что уже кончаюсь. Собирался даже кричать, звать на помощь. Но хорошо, что силу в себе нашел пресечь собственное малодушие. Корчился в кашле, но в стену стучать не стал и в коридор с криком "помогите" не выбежал. Когда приступ кончился, в тот же день пошел к знаменитому врачу. Я делю всех врачей на две категории. Одни из них, златоусты, любят подсластить пилюлю, ободрить, замаскировать обман. Другие сразу говорят грубую правду. У врача, к которому я обратился, фамилия была Керн, как у возлюбленной нашего бессмертного Пушкина. Старичок немецкого происхождения осмотрел меня и долго молчал. А потом спросил, чем я занимаюсь. Узнав, что я кончаю консерваторию, грустно покачал головой: "Молодой человек, вам никогда не придется петь. У вас наследственная легочная астма в тяжелой форме". Я, растерявшись, его спросил: "Она меня задушит?" "Нет, - ответил Керн, - но петь не даст". Вот и пришлось навсегда оросить сцену и расстаться с мечтой о ней. Раздвоился я и был жестоко наказан судьбою за это. Ни знаменитого певца, ни знаменитого математика из меня не получилось.
- И оставалось третье: кипрегель, нивелир и теодолит?
- Вот именно. Как хорошо, что эти слова мои ты запомнил тогда, в Петербурге. Я произнес их случайно, а вышло, что предрек собственную судьбу.
- Стало быть, землемеришь?
- Землемерия, - вздохнул Александр Сергеевич и для чего-то расстегнул ворот сатиновой рубашки, будто ему сразу стало душно. - А после того как пятый десяток пошел, трудно уже стало по нашим донским станицам с треногой шлепать. Да плюс к тому - астма. Вот и пришлось третью" профессию найти.
- Какую же, Саша?
- Педагогом я стал, Павлик. У нас, в Новочеркасске, па базе бывшего землеустроительного техникума ДЗУМТ открыли. А это знаешь, что такое? Донской землеустроительно мелиоративный техникум. Вот там я и преподаю геодезию и высшую математику. И, знаешь, увлекся. Это чем-то даже на театр похоже. Там у тебя зрительный зал, а тут аудитория. Если ты талантливый певец, ты владеешь зрительным залом, способный педагог - завоевываешь симпатии своих учеников. У меня как будто бы получается, - добавил он.
Павел тем временем рассматривал на письменном столе большую фотографию па картонной ножке. Девушка, подперев кулачком подбородок, чем-то немного рассерженная, смотрела с нее. Она очень напоминала жену брата, которая в соседней комнате гремела сейчас посудой, накрывая па стол, и еще кого-то. Не надо было рыться в памяти. Павел сразу вспомнил кого. Он долго не забывал скорбную фразу брата, промолвившего в ответ на его предположительное: "Это твоя невеста?" - "Бывшая". Теперь ему снова предстояло задать тот же самый вопрос, но Александр, угадав его намерение, неохотно проговорил:
- Ты собираешься спросить меня, кто это. Ты ведь видел этот портрет во время нашей последней встречи в Петербурге накануне моей первой и последней премьеры на оперной сцене. Это та самая Наденька.
- А сейчас, где она сейчас? - нетерпеливо спросил Павел.
Брат улыбнулся как-то грустно и очень тепло в одно и то же время:
- Накрывает нам стол в соседней комнате.
- А как же твои слова?..
- Какие? О том, что она невеста бывшая?
- Да. Значит, ты меня обманывал?
Александр Сергеевич схватился за грудь и закашлялся. Поднеся ко рту скомканный платок с синими каемочками, кашлял долго и гулко. В груди у него что-то свистело и хрипело, из-под пенсне текли по щекам бессильные слезы, и все лицо вдруг стало серым и некрасивым. Однако вскоре приступ миновал, он раза два глубоко вздохнул и с тем же грустным выражением лица продолжал:
- Я тебя никогда не обманывал, Павлик. Клянусь в этом как младший брат. Подробностей, как ты сам понимаешь, касаться не стану. Да, Надежда стала в те дни невестой другого. Она училась на Бестужевских курсах в Харькове, увлеклась молодым армейским саперным инженером и вышла за него замуж. Было больно, но ненавидеть его я не смог. Я был в это время далеко, а они рядом, и, вероятно, многое произошло по той мудрой пословице французского философа, которая гласит: когда мужчина и женщина остаются в одной комнате, они меньше всего говорят о политике. Вероятно, он был твердым и цельным парнем, потому что добровольно пошел на фронт, наивно считая себя защитником царя и отечества. А я женился на Надиной подруге Насте Стрельниковой. Она, к сожалению, умерла от чахотки... А у Наденьки на германском фронте погиб муж. Вот и стали мы снова встречаться, горе выплакали друг другу и поняли, что прошлое захлестнуло нас со страшной силой. Короче говоря, поженились мы вскоре. Сначала жили на частной квартире, а потом, как видишь, собственным домом обзавелись. Детей у нас двое: в ожидании встречи с тобой они в своей комнатке притаились. Старший, Григорий, - это от Настеньки, а Веня общий.
Не успел Александр все это поведать старшему брату, как дверь в кабинет тихонько приоткрылась и на пороге появилась его Надежда Яковлевна. Она успела за это время не только накрыть на стол, но и переодеться. В платье из дорогой синей шерстяной ткани с вырезом на груди она явно помолодела. Тонкая цепь из червонного золота, увенчанная кулоном, украшала ее смуглую шею. Сверкал в оправе камень аметист. Никакой косметики не употребляла хозяйка дома, и от этого казалась совсем молодой. Павел несколько раз переводил взгляд со старой фотографии на картонной ножке на хозяйку дома.
- За стол, дорогие друзья, - пригласила она, и от доброй улыбки расцвели на смугловатых щеках ее ямочки. - Если вы не возражаете, Павел Сергеевич, я детей позову. Они так хотят увидеть вас. Сидят в своей комнате тихо-тихо, как мыши в норе.
- Вот и пускай сидят, - строговато перебил ее Александр Сергеевич, но старший брат неодобрительно покачал головой:
- Зачем же, Саша? Я ведь очень хочу посмотреть на своих племянников.
За дверью раздались облегченные вздохи, и взрослые дружно рассмеялись.
Стол сверкал самой шикарной сервировкой, на какую только была способна семья Якушевых. Надежда Яковлевна поставила ради гостя сервиз из саксонского фарфора. Крышка супницы едва не поднималась от куриного бульона. А на второе предназначалась индейка, начиненная гречневой кашей. На тарелочках была аппетитно разложена черная икра, в огромном блюде, расписанном порхающими амурами, была подана дымящаяся жареная картошка. Кроме того, к чаю всех ожидал роскошный торт "Наполеон".
- Павел Сергеевич, - улыбнулась хозяйка дома, - хотя я и в стане неверующих, но ваш визит как подарок от бога. У нас же сегодня с Сашей супружеский праздник - годовщина дня бракосочетания.
- Вот это да! - воскликнул гость. - Значит, мне положено кричать "горько". Однако я не вижу бокалов и бутылки вина.
Надежда Яковлевна метнулась в коридор и возвратилась с двумя бутылками цимлянского игристого. - Кажется, исправила свою ошибку. А кто откроет?
- Могу и я, - не совсем уверенно протянул Александр Сергеевич, но жена отрицательно покачала головой.
- Ой нет, Саша. Во-первых, в такой торжественный день ни тебе, ни мне этого делать не положено, а во-вторых, ты не справишься, прольешь вино на скатерть и потом долго будешь нас убеждать, что, пока ты жил в Петербурге, не вылазил из винных подвалов потомков мадам Клико и лучше всех знаешь, как надо с этим вином обращаться.
- Короче говоря, гусар среди нас налицо один, - объявил Павел. - А ну, подставляйте бокалы, я этим гидрам капитализма быстро головы снесу, - кивнул он на бутылки.
В эту минуту в зал из детской вошли принаряженные мальчики: один лет семи, со светлой челкой мягких, как шелк, волос, другой в длинных брюках и заправленной в них белой рубашке, смуглый тринадцатилетний Григорий, с темными пугливыми глазами и загорелой шеей. Ладонью проведя по стриженой шершавой голове, он нерешительно произнес:
- Здравствуйте, дядя Паша, а мы вас ждали.
- Ну и дипломат, - не в силах победить смех, отозвался Павел Сергеевич.
- Ничего, - заступился за сына Александр, - он накрепко заповедь усвоил, что самая тонкая ложь бывает у дипломатов.
- Да, - согласился Павел, - но не самая добрая, если вспомнить господ в изысканных фраках, с которыми приходится воевать нашему Чичерину. А у вашего Гришатки ложь святая.
Гриша, ничего не поняв, стыдливо потупился. Младший шмыгнул носом и вместо приветствия спросил:
- Дядя Паша, а это правда, что вы у Фрунзе служили?
- Служил, - весело подтвердил Павел Сергеевич, и его рука, счищавшая с бутылочной пробки серебряную фольгу, замерла.
- И конь в нашем сарае ваш стоит?
- Мой.
- А его можно потрогать, Гриша хочет спросить.
- Ну и дипломат, - повторил Павел. - Разумеется, можно. Но только при мне. Передай своему Грише, что он и лягнуть еще может. Я вам даже разрешу в седле посидеть. Так и скажи Грише, от имени которого вопросы задаешь.
- Вот здорово! - закричал Венька. - Ты слышишь, Гриша!.. А когда?
- Пообедаем и пойдем все вместе в сарай.
Венька с тоской оглядел ломившийся от еды стол и уточнил:
- А вы долго будете обедать?
- Да часа полтора, - усмехнулся Павел Сергеевич.
- Полтора часа, - разочарованно протянул мальчик. - Это же так долго, дядя Паша... А вы, как я, не можете? Я за десять минут все съедаю. Меня за это мама саранчой называет. Давайте мы, как саранча, поедим и пойдем с конем играть. А они пусть сколько хочут сидят.
- Венечка, - укоризненно перебила мать, - во-первых, не хочут, а хотят. А во-вторых, не приставай к взрослым. Учись у Гриши. Смотри, как он скромно себя ведет.
- Это потому, что он большой, - заявил Венька, - и потому, что не родной тебе... да, да, ты его, как меня, не любишь!..
У Надежды Яковлевны вздрогнул подбородок и вспыхнули щеки.
- Вениамин, замолчи! - прикрикнула она. - Иначе станешь в угол.
У Павла Сергеевича, наблюдавшего эту сцену, погрустнели глаза и приобрели какой-то стальной оттенок. Он подумал, что вот и выплыла наружу, как заноза, которую трудно вытащить из тела, эта маленькая семейная тайна, видимо, старательно оберегаемая родителями. Вроде все в порядке: на Гришатке и рубашка с таким же, как у отца,
косым воротом, чистая и наглаженная, и головенка у негр стриженая, и туфельки новые на ногах обуты, а в глазах тоска и печаль недетская. И взрослые к ней привыкли настолько, что уже не обращают внимания.
- Гришатка, а ну иди ко мне, - позвал решительно Павел Сергеевич, - вот же рядом со мной место свободное. - И, когда мальчик приблизился, деловито заключил: - Сидай. В тесноте, да не в обиде.
Хлопнула пробка, и тугая светлая струя обрушилась в бокал. Тем временем Надежда Яковлевна наполнила стаканы детей малиновым лимонадом. Павел поднялся с пенящимся бокалом, кратко провозгласил:
- В доброй старой русской былине было три богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Вот Илья Муромец, - хлопнул он Гришатку по плечу. - Подрастает Добрыня Никитич, - кивнул на Веньку, - а теперь Алешку Поповича надо вам заводить, дорогие родители. Одним словом, "горько"!
Взрослые засмеялись, осушили свои бокалы, и обед начался. Павел старался поддерживать разговор не только со взрослыми, но и с обоими мальчиками. Он радовался, видя, как грустное выражение сбежало с лица Григория. А Веня, дергая себя за оттопыренные уши, задавал все новые и новые вопросы до той поры, пока Александр Сергеевич не пригрозил ему ремнем. Надежда Яковлевна, искоса наблюдавшая за гостем, удивлялась тому, как этот суровый с виду человек так быстро сошелся с мальчиками. Несколько смущаясь, она спросила:
- Павел Сергеевич, а у вас своих детишек не было? Он потемнел лицом, прервал на полуслове рассказ о буденновцах и белых, который с разинутыми ртами слушали ребятишки, скупо вымолвил:
- Нет. - И замолчал.
Маленький Веня бесцеремонно воскликнул:
- Дядя Паша, ну а дальше? Ты же недорассказал. Догнал Буденный атамана Чугая? Срубил ему голову или нет?
- Я потом, мальчики, - извинился гость.
Мрачная тень пробежала по его лицу, отсветы горя ожили в расширившихся глазах, и уже ничто не могло эти отсветы погасить.
- Не было у меня ни сына, ни дочери, - выговорил он наконец. - А ведь должен же был кто-то быть.. В 20-м на врангелевском фронте у сестры медицинской Лены Вяткиной мог бы родиться мой ребенок. Мой, понимаете? Это была единственная женщина в моей судьбе, такая близкая и понятная. Жизнь подпольщика, вы же знаете, какой она была напряженной и суровой. Совсем не обязательно ее испытать, чтобы судить об этом, да и о том, как было трудно иметь подпольщику семью. Иные заводили, а я не мог.
- Почему, Павлик? - тихо спросил Александр Сергеевич.
- Боялся любить и быть любимым. Горе не хотел принести близкому человеку. И не совладал с собою все-таки. Медсестра Лена была такой, что за один волосок с ее светлой головы я готов был весь земной шар пешком обойти. И сам же, можно сказать, ее погубил. Если бы не пошел к ней в ту ночь в лазарет на свидание, возможно, она сейчас сидела бы здесь, рядом с нами, вот на этом самом стуле, на котором восседает Гришатка.
Павел замолчал, большой острый кадык дернулся оттого, что он удерживал рыдания. Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна сделали вид, будто ничего не замечают, но, пересилив себя, Павел, не поднимая головы, продолжал:
- Кому ж я об этом расскажу, как не вам... Вы, Надежда Яковлевна, не подумайте, что боль причинили мне своим вопросом. Если я начал говорить, то уже не остановлюсь и обязательно закончу, как бы мне тяжко ни было. Характер у меня такой, и никуда уже от него не уйдешь. Лена у меня была - лучше не сыщешь. Глаза большие, голубые, как звездочки. Мне даже и впрямь казалось, что в темноте они искрятся, но это от сильной влюбленности, разумеется. Коса светлая, ниже пояса. На край света за Леной бы сейчас пошел, если бы воскресла и позвала. Она уже той порой беременна от меня была... Сколько ночей мы о будущем проговорили! Когда не было боев, я почти каждую ночь к ней в лазарет хаживал. И сила, которая к ней меня толкала, называлась силой любви, самой что ни есть торжествующей. Врангелевские посты, очевидно, все приметили и в плен меня захватить порешили. Еще бы! И во сне ведь не придумаешь лучшего "языка", чем комиссар полка. Словом, когда в сопровождении своего верного ординарца Феди Клюева направился я на очередное свидание, напали они на санитарную палатку, стоявшую на отшибе. Лена первой же вражеской пулей была убита наповал. А на меня врангелевский офицер с маузером кинулся. Хотел колодкой по голове стукнуть, да промахнулся. А тут наши подоспели и всех врангелевцев порубали. Один офицер в темноту ужаком уполз. Так и не смогли его обнаружить в потемках. Папаху кинул, а сам от нее, чтобы нас со следа сбить, в другую сторону подался. Но хоть и темно было, а я его рожу до каждой черточки запомнил. Когда он на меня колодкой маузера замахнулся, я его за запястье схватил и руку к земле стал гнуть, тут и разглядел как следует. Рожа широкая, глаза с крупными белками, губы толстые, лоб низкий, волосы курчавые на него свисают. И ярость меня страшная обуяла. Неужто от такого гада смерть я должен принять? Словом, если я его на том свете даже увижу, то узнаю и уничтожить стремиться буду как последнего гада революции. Я бы его и в той палатке голыми руками задушил, да к своей Леночке на ее стон бросился, все надеялся, еще выходим. Да уж куда там... Взял я ее за плечи, прижал к груди, но жизнь уже покидала ее... Лежала она красивая, строгая, гордая, а глаза ее словно сказать мне что-то самое заветное хотели... Тот офицер, этим моментом воспользовавшись, бежал. И не исключено, что до сих пор ходит по нашей земле да еще речи за Советскую власть произносит. Если бы его поймал, я его из нагана бы не расстреливал. Я бы ему посуровее смерть придумал. Такую, чтобы при одном упоминании о ней у него волосы дыбарем встали. - Павел Сергеевич отодвинул от себя бокал с недопитым цимлянским, осипшим голосом попросил: - Надежда Яковлевна, голубушка, дорогая! Заберите от меня подальше этот напиток благородный, а мне в кружечку алюминиевую или, по крайней мере, в стаканчик граненый чего-нибудь свеженького покрепче налейте, чтобы единым духом его принять.
- Да чего же вам, Павел Сергеевич? - растерялась хозяйка. - Вы и на самом деле застали нас врасплох. - Она до того посерьезнела, что даже ямочки исчезли на щеках. И была похожа на любую хозяйку дома, которая во что бы то ни стало старается угодить гостю, но не знает, как это сделать. - Коньяку у нас нет, рома тем более. Даже водки... - При этих ее словах Павел все мрачнел и мрачнел. И тогда Надежда Яковлевна, совсем уже потупившись, рискнула: - Там у меня в бутылке спирт остался для растираний. Он чистый, медицинский, но вы же не станете его пить. Ради бога, не обижайтесь за такое предложение...
- Что? - загрохотал своим чуть простуженным голосом Павел Сергеевич. - Я обижусь? Спирт? Медицинский? Милая Надежда Яковлевна, подавайте-ка его сюда, и чем скорее, тем лучше!
Когда Надежда Яковлевна принесла бутылку, наполовину наполненную бесцветной жидкостью, и стала уточнять, сколько налить, гость оживился, протянул к ней руку:
- Давайте ее сюда, пожалуйста, я сам распоряжусь.
Надежда Яковлевна придвинула к нему хрустальную рюмку, но Якушев решительно ее отстранил:
- Нет.
Тогда хозяйка, рассмеявшись, подала граненый стакан.
- Не то, - повеселел Павел Сергеевич, - тащите-ка алюминиевую кружку.
- Павел Сергеевич, - взмолилась Надежда Яковлевна, - да нет у нас такой! Хотя постойте, есть эмалированная.
- Сойдет, - одобрил гость.
Когда на стол была поставлена коричневая эмалированная кружка, он взболтал спирт и вылил в нее весь без остатка. Внимательно следивший за всеми этими приготовлениями Александр рассмеялся:
- Неужели ты неразбавленный станешь пить? Совсем как брамин - огненную воду?
- Нет, - замотал головой старший брат, - придется все-таки разбавить, а то завтра я своим орлам на плацу не те команды подавать буду. Долейте, пожалуйста, сырой водички почти до самого края, - попросил он Надежду Яковлевну. - Словом, чтобы "аш два о" получилась ничего. Ребята, смотрите и никогда не пейте подобно мне, - засмеялся он и поджег спирт. Султанчик фиолетового огня встал над кружкой. - Ну что? Видели? А теперь раз, два, три и аллюр три креста! - Сказав это, он поднес к губам кружку с горящим спиртом и выпил ее до дна.
- Вот это да! - вскричали хором Гриша и Веня. - Дядя Паша, да ты же настоящий факир! Тебя в цирке можно показывать!
- Спасибо, что хоть не в зверинце, - воскликнул старший Якушев, закусывая соленым огурцом. - Это я за ваше здоровье, родственнички. Живите сто лет на радость земле нашей, кровью политой, у беляков отбитой. И еще хочу я посмотреть, как вы поцелуетесь. Одним словом, "горько", "горько" и "горько"!
Надежда Яковлевна и Александр встали и смущенно повиновались.
Все, что было на столе, иссякало с неимоверной быстротой. После спирта Павел сметал такое количество еды, что хозяйка начинала уже всерьез опасаться, хватит ли всего ею приготовленного. Но гость внезапно отложил в сторону не до конца опустошенную тарелку и благодарно заметил:
- На этом все. Далее командир кавалерийского полка не может уже чревоугодничать, потому как сыт по горло.
Александр Сергеевич вдруг спросил:
- Брат, а у тебя фотография погибшей невесты не сохранилась?
Павел поднял на него чуть захмелевшие глаза - они уже не были веселыми.
- Увы, Саша... Не до фотографий в ту пору было. У меня навек осталась одна самая главная ее фотография - память о ней человеческая. Вот закрою глаза и всю-то ее, каждую черточку вижу... И будто зовет она меня по ночам нежным своим голосом в какую-то даль, а куда - не знаю. Ну почему в ту ночь подлой вражьей пули не нашлось и на меня у судьбы? Не мучился бы сейчас на земном шаре бывший командир эскадрона Пашка Якушев...
- Что вы, Павел Сергеевич, - испуганно прервала его Надежда Яковлевна. - Да разве можно так себя изводить? Вы оглядитесь получше вокруг. Жизнь - она всегда прекрасна, какой бы изначально не казалась. Заживет душевная боль, найдете другую женщину...
- Такую, как она, ни за что, - мрачно возразил Павел, и тихая улыбка озарила его лицо. - Помню, ночевали мы однажды на сеновале в отбитой у белых деревеньке. Меня после боя сон так сморил, что как убитый на сено повалился. Встаю и вижу, как сквозь застрехи веселый рассвет в сарай пробивается, кусочек голубого неба сверкает. Сидит надо мною в одной белой рубашоночке Лена с распущенной косой, а ее светлые волосы обнаженные плечи закрыли. "Знаешь, Павел, - говорит она, - я сегодня всю ночь глаз не сомкнула. Гляжу на тебя и с такой тоской думаю, что каждый день под смертью таскаешься. Неужто отнимет тебя у меня косая? Как жить после стану?.." Вот как она говорила, а вышло все наоборот. Ее у меня смерть отняла... Так как же я могу про нее забыть и о других женщинах думать! Нет уж, видно, до самого последнего дня холостым гулять по земному шарику суждено донскому казаку Пашке Якушеву...
Надежда Яковлевна отвернулась в сторону и сделала вид, что закашлялась. Александр Сергеевич в волнении снял пенсне, затем снова его утвердил на носу. Тяжело дыша, он боролся с подступающим кашлем.
- Не понимаю я вас, - вымолвил он неодобрительно.
- Кого это нас? - рассеянно уточнил Павел.
- Вас... большевиков.
- В чем же?
- Жестокие вы все-таки люди. И ничего у вас нет за душой, кроме голой идеи, за которую вы так легко отдаете свои жизни.
- Какая ж такая у нас голая идея? - сердито спросил Павел.
- Да не одна, а их много, - ответил брат. - Критикуете религию, утверждающую, что земля стоит на трех китах, а ваше учение о мировой революции даже не на трех китах, а на песке основано. Неужели ты полагаешь, что американский рабочий, сытый, хорошо обутый и одетый, имеющий дом, немедленно откликнется на ваш призыв и скажет: дайте мне винтовку и пулемет, и я пойду воевать за мировую революцию, готовый и к голоду, и к смерти?
Якушев-старший неопределенно пожал плечами:
- Ну, сегодня, может быть, не пойдет, а придет время, на нашу агитацию и революционную идею откликнется.
- Да никогда он не откликнется, - рассмеялся Александр Сергеевич, - потому что в душе он неисправимый собственник. А у вас ничего за спиной, кроме фанатичной веры в несбыточный коммунизм. И как мало при этом подлинной человечности.
- Это почему же, Саша? Скажи.
- И скажу, - твердо возразил Александр Сергеевич.- Вот слушал я историю о твоей любви и гибели Лены, и сердце сжималось. Ведь твоя драма - она выше любой шекспировской. Но корень ее в чем? В бесчеловечности, Павлик. Для вас любая рядовая личность, я оставляю в стороне вождей, это бесконечно малая величина. И вы стараетесь объединить эти величины в роты, полки, армии, дав им одну идею. А люди-то разные, и разве можно объединить их одной идеей, принудить мыслить одинаково, если все они разные и наклонностями, и характерами?
Павел Сергеевич посуровел и, словно желая успокоиться, провел ладонью по волосам. И уже не осталось в его взгляде той веселости, с которой он, бравируя, поднимал кружку со спиртом, и той тоски, с какой рассказывал о своей единственной, первой любви.
- Вот ты как заговорил, Саша, - произнес он раздумчиво, - Ты же наш хлеб советский ешь, кровушкой политый, а судишь о сегодняшнем дне, извини на слове, как мелкий буржуй. И откуда у тебя психология гнилая такая выковалась? Рос в бедности, в голоде и холоде, а чуть-чуть расправил крылышки во время своего московского житья - и получилось точь-в-точь по пословице: из грязи да в князи. Откуда ты взял, что нельзя одной идеей народ сплотить? Это смотря какой идеей. За нашей, например, идеей миллионы трудящихся пошли. А знаешь, как эта идея на всечеловеческом языке формулируется? Ленин об этом кратко, но с потрясающей глубиной сказал: вся власть Советам! Между прочим, мне об этой идее впервые бывший царский полковник генерального штаба, казак по происхождению, Михаил Степанович Свечников сказал. Мудрый человек, Порвал со своим классом и в самом ответственном, семнадцатом, году в большевистскую партию вступил. Даже был в группе, обеспечивающей возвращение Ленина в Петроград. И к мировой революции мы в свое время приблизимся. Будь спокоен.
Александр Сергеевич не соглашался. Когда спорил, он был очень упрям. На возражения собеседника сердился, губы у него начинали дрожать, лысый лоб багровел. Затем он делал вид, что надвигается очередной приступ астмы, и под этим предлогом удалялся в кабинет. Сейчас же, пожав плечами, с ласковой, прощающей улыбкой он обратился к жене:
- Посмотри, Надюша, на этого упрямца. Мы с ним целую ночь, спали вместе на одной кровати в петербургской гостинице, и, когда Павлик перед сном раздевался, я ужаснулся. У него же вся спина на допросах полицейскими служаками была исполосовапа! Полагаю, с тех пор шрамов меньше не стало.
- Ошибаешься, братишка, больше, - усмехнулся Павел. - На Перекопе мне и от белогвардейской шашки маненько досталось. Так что теперь не спина, а географическая карта целая, но только карта побед, а не поражений. И победы все во имя народа, во имя ленинской правды.
- Вот как, - сощурился Александр Сергеевич, серо-синие глаза которого ласково смотрели на брата, словно перед ним был не умудренный жизнью человек, а ребенок. - А вот насчет побед' хочу поспорить. Почему победы твоих друзей всегда с жестокостью были связаны? Разве твои товарищи по оружию не проливали невинную кровь?
- Например? - перебил его старший брат строго.
- Например, зачем расстреляли профессора Синельникова, крупного специалиста по электротехнике? Это был эрудированный человек с утонченными манерами. Его арестовали меньше года назад. Ты об этом что-нибудь знаешь, Павлик?
- Знаю, Саша, - неохотно проговорил брат. - Синельвиков прятал в своем доме целое сборище офицеров и помог всем им уйти.
- Да, но он это делал, по-видимому, из гуманных побуждений.
- Из гуманных? - горько переспросил Павел. - А пригретые им гаденыши, по-твоему, тоже из гуманных побуждений из-за угла убивали честных советских граждан, да? - Он вздохнул и устало покачал головой. - Ты вот о пролитой нами крови заговорил. Да, текла кровь. А какая, скажи мне, революция делалась без крови? Что же мы, на брудершафт пить шампанское, что ли, должны были с теми, кто в нас стрелял? А ты подумал о той крови, что была пролита последним царем и его приспешниками? Теми, что Невский проспект трупами усеяли, в тюрьмах и ссылках тысячи верных сынов отечества уничтожили? Ты все измеряешь тем, сколько стоила белая булка при царе и сколько она в первые годы Советской власти стоила, когда кругом разруха да банды.
Александр Сергеевич замолчал и, чувствуя, что не находит аргументов для возражения, ушел в кабинет, сославшись на подступающий кашель и на то, что не хочет курить при всех дурно пахнущий астматол. Надежда Яковлевна, провожая ироническим взглядом его спину, пояснила:
- Он всегда так выходит из боя.
- У старых казаков это называется "дать тыл", - поддержал ее Павел.
Через несколько минут хозяин возвратился и как ни в чем не бывало сел на свое прежнее место, но спора больше не возобновлял.
Хозяйка разрезала торт и подала чай. Предложила еще выпить по бокалу цимлянского, но мужчины отказались. Александр Сергеевич стал упрашивать старшего брата ocтаться на ночлег, но тот решительно возразил:
- Не могу, Саша. Право слово, не могу. Посуди сам. Ведь больше часа скакать до персиановских лагерей, а в шесть утра построение полка, на котором мне как командиру надо принимать рапорт. Так что на этот раз уволь.
В сумерках Павел вывел из сарая буланого жеребца, разрешил ребятам по очереди посидеть в седле и добродушно сказал на прощание:
- Ты, Гришатка, уже настоящий кавалерист. Хоть к самому Семену Михайловичу Буденному в ординарцы тебя отдавай. А Вене еще немножечко подрасти надо.
- Я это быстро, дядя Паша, - заверил мальчик.
Александр Сергеевич тихо напутствовал брата:
- Ты, Павлуша, будь поосторожнее. Неспокойно у нас по ночам на окраине. Шалят.
- Ничего, - усмехнулся Павел. - У меня для шалунов эта штука всегда наготове. - И он вынул из кармана наган.
- Ой ты, - задохнулся от радости Венька. - Дядя Павел, а потрогать можно?
- Это тебе не игрушка, постреленок, - ласково щелкнул он малыша по носу и еще раз, прощаясь с ними, сказал: - Хорошо, что мы наконец-то встретились. Не взыщите, Саша и Надя, буду теперь у вас частым гостем. Скучно бобылю в Новочеркасске жить.
- А ты все-таки женись, - чуть в нос поучающе проговорил Александр Сергеевич. - Залечи свою душевную рану и женись. Вот я же женился во второй раз. Все в жизни поправимо, братец, непоправима одна только смерть, - философски заключил он. - И никогда к тому же не забывай, что, пока человек живет, ему известна лишь одна дата в собственной судьбе - дата рождения. Вот и женился бы ты, мой дорогой, памятуя эти мои слова.
- Куда мне, - рассмеялся Павел, - ты же интеллигенция, да еще научно-артистическая: и математик, и драматический тенор в одном лице. Вы по иным принципам живете, нежели мы, командиры РККА. - Понизив голос, он попросил: - Саша, и еще об одном. Не бурчи ты, ради бога, на Советскую власть. Век новый пришел на нашу землю, а ты, как улитка, в нору заполз и знать ничего не хочешь. Примешь этот век - слава тебе людская. Откажешься - сдует тебя со своего пути ветер нашей истории революционной.
Александр Сергеевич горько вздохпул:
- Жесток ты, брат мой. Жесток и категоричен.
Павел Сергеевич ничего на это не ответил. Он вскочил в седло, помахал провожающим рукой и поскакал в темноту. Конь поднял фонтанчики пыли на ведущей к городскому вокзалу немощеной улице.
- Ну и помчался дядя Паша! - восторжепно выкрикнул маленький Венька. - Вот бы я так мог!
Примерно через час после проводов гостя, заканчивая на кухне уборку, Надежда Яковлевна услышала отчаянный кашель, доносившийся из кабинета. Отложив в сторону последнюю домытую тарелку, она сняла клеенчатый фартук и поспешила туда. Александр Сергеевич в теплой нижней рубашке сидел, чуть откинувшись в кресле, и держался ладонью за грудь. Голова его была запрокинута, синеватые белки казались огромными, а лицо было серым от напряжения. Кашель буквально накатывал на него волна за волной. Александр Сергеевич стонал, как попавшее в бурю суденышко, в груди у него хрипело, по огромному лоу струился пот. Отплевываясь в жестяную консервную банку, он так тяжело дышал, что могло показаться, будто он доживает свои последние минуты. На чистом блюдце тлел табак астматол, насыпанный пирамидкой. Синеватой струйкой расплывался дымок, от которого становилось легче.
Надежда Яковлевна появилась на пороге.
- Очень плохо? - деловито осведомилась она.- Что-нибудь надо?
Муж отрицательно покачал головой, с усилием проговорил:
- Это от бокала вина, наверное. Убеждал себя, что не надо пить, да стадное чувство победило, погнался за вами, вот и расплачиваюсь.
Он недоговорил. Накатил новый приступ, который довел его почти до крика. Надежда Яковлевна вспомнила: когда вышла за него замуж и с Александром Сергеевичем случился такой же, как и сейчас, приступ, она решила, что он умирает, и стала одеваться, чтобы бежать за врачом. Однако муж с трудом перевел дыхание и даже попытался улыбнуться:
- Чудачка ты, Наденька... Придется привыкать... Такие приступы редко у кого кончались смертью, хотя они и очень мучительны. Спи...
И она действительно привыкла к ним за совместно прожитые годы до того, что иной раз даже не вставала, если это случалось глубокой ночью. Но сейчас приступ был очень сильным, и она не могла оставить мужа в одиночестве.
- Тебе ничего не надо? - повторила она свой вопрос.
Кашель бил его с новой силой, но и на этот раз он ничего не сказал, лишь отрицательно помотал головой. Она постояла на пороге в надежде на то, что приступ пройдет и он скажет ей что-то, но кашель действительно прошел, а слов она не дождалась и молча возвратилась на кухню.
Проходя через детскую, она бережно поправила одеяло на спавшем Веньке, равнодушно прошла мимо кровати Григория и, стараясь не шуметь, быстро убрала посуду в черный резной буфет. Проверив в коридоре запоры на двух дверях, одна из которых выходила во двор, а другая на улицу, хозяйка отправилась спать. Часто дыша под одеялом, еле сдерживая подступающие рыдания, она безжалостно обрушилась на себя. Ну почему она не пожалела мужа, которому сейчас, вероятно, очень тяжело? Почему не подошла ближе, не положила руки ему на плечи, не поцеловала его, обессиленного? Она не догадывалась, что и Александр Сергеевич в эту минуту, подавляя тяжелые вздохи, размышляет о том же самом. "Где же хотя бы капелька милосердия? Ведь видит же ясно, как я изнемогаю от астмы, и хотя бы одно ласковое слово, один жест, продиктованный жалостью... Только холодный вопрос "не нужно ли чего?" - вот и все сострадание. Можно подумать, что я и сам не смог бы встать и налить себе валериановых капель или сходить на кухню за теплой водой". И он вспомнил другую женщину, свою первую жену Настю. Та бы всю ночь напролет просидела с ним рядом, шутила бы и смеялась до той минуты, пока приступ не кончится и пока обессиленный Александр Сергеевич не рухнет на кровать и не провалится в сон, успев благодарно прошептать: "Спасибо, Настюша".
Нет Настеньки. Своими руками девять лет назад обрядил он ее, холодную, изглоданную чахоткой, чтобы передать на попечение старух, приготовившихся положить ее в гроб. Маленький Гришатка, ничего не понимая, сидел в углу, держа в руках разноцветную юлу. А потом они уехали из Харькова в Новочеркасск, потому что родной край попрежнему тянул к себе Александра Сергеевича. И вскоре в Александровском саду он встретился со старой своей знакомой Наденькой Изучеевой. Она первая бросилась к нему и зарыдала.
- Саша, Саша... Какая же она жестокая, наша жизнь, если обрекает человека на такие испытания!.. Ведь мы в свое время так дружили с твоей Настенькой... так дружили. А теперь ты потерял ее, а я своего Ванечку...
Александровский сад быстро наполнялся вечерними посетителями. Чтобы не привлекать внимания, Александр Сергеевич посадил Надю на скамейку в малоприметной, не освещенной фонарями аллейке. Он был в форме землемера и на вопрос своей старой подружки о том, как теперь живет, ответил с грустным смешком:
- Ты же видишь. Оперного певца из меня не получилось, великого математика тоже. Брожу летом по полям и лесам с теодолитом, зимой сижу на камеральных работах. Вот и все.
- А наши детские годы не забыл?
- Нет, - ответил он односложно.
- И то, как я тебя провожала в Москву за счастьем?..
- Как тебе не совестно, Наденька! - возразил он печально. - Ни тебя, ни матушку твою, ни Якова Федоровича, ни тот день...
- Не надо, Саша, - прервала она. - Слишком тяжко вспоминать, как на наших с тобой глазах погиб мой отец
Ты лучше вспомни о тех последних минутах па перроне вокзала.
- Ты тогда сказала, что будешь меня ждать,- тихо промолвил он, и это прозвучало как укор.
- Я не виновата, поверь, - после долгой паузы сказала она. - Ты учился в Москве, а Ваня был рядом. Ты был призрачным и далеким, а он реальным. И порыв был... зачем скрывать. Приходи к нам в гости. Обязательно приходи. Мы с мамой всегда будем рады, - Она вдруг встала со скамейки и направилась к выходу. Желтый гравий зашуршал под ее ногами и стих.
А потом их встречи стали ежедневными, и осенью Александр Сергеевич сделал ей предложение. Он только спросил однажды, отводя от неловкости взгляд:
- Надюшенька, а вот Гриша... он тебя не остановит? Ведь все-таки чужой ребенок?
- Вот еще! - пылко воскликнула Надежда Яковлевна. - Да как ты можешь!.. Он теперь нашим будет, а не чужим.
"Вот и ошиблась Наденька, - невесело подумал Александр Сергеевич. - Не хватает у нее души, чтобы одинаково относиться и к Вене, и к Грише. Не дай бог, чтобы у ребят возникла обоюдная неприязнь". И с этой мыслью он крепко заснул.
А Надежда Яковлевна долго еще была не в силах заснуть и, беспокойно вздыхая, лежала с открытыми глазами, вся какая-то поникшая и надломленная. И снова одна и та же мысль сверлила сознание, "Плохая ты, Надя, - корила она себя. - Очень плохая. Ты сейчас должна встать, пойти в кабинет и приласкать этого доброго человека. Ведь он же отец твоего сына и бедного сиротинки, он мягкий и справедливый. Он готов отдать семье всю свою жизнь без остатка. По шесть лекций в день читает студентам техникума, чтобы семья жила хорошо. Но ты не можешь так поступить, потому что не находишь в себе сил горячо его полюбить и одинаково относиться к Грише и Вене. Разве это не так? Ты не мать, а мачеха, и не только потому, что нет в тебе доброты и ласки в глазах, когда они видят Гришу, но и потому, что даже к мужу не чувствуешь любви. А почему? Неужели бедная Настя, ушедшая из этого мира, всему виной? Зачем ты, неискренна перед собственной совестью, когда убеждаешь себя, что ревность к Насте всему причиной? Опомнись, ведь он же соединил свою судьбу с пей, когда ты была уже замужем. Замужем", - мысленно повторила она, и вдруг память возвратила прошлое
...Она неожиданно увидела поле с колыхавшейся рожью па самой окраине Воронежа и себя в строгом черном платье с белым воротничком, какие носили все слушательницы женских Бестужевских курсов в ту пору. Вот она бежит навстречу чуть загорелому кудрявому саперному офицеру, вырвавшемуся в свой родной город с фронта на короткую побывку, бросается ему на грудь, смеется и плачет от радости. Споткнувшись, она падает в густую хлебную россыпь и видит над собой ослепительно голубое небо и лицо, закрывшее это небо разметавшимися светлыми кудряшками и веселыми васильковыми глазами. "Мой, мой", - замирает она от счастья. А потом они выбираются из ржи на поляну, и он, ее Ванечка, певучим голосом втолковывает ей, как маленькой:
- Ты за меня не бойся. Я не погибну, потому что меня пи одна смерть не возьмет на фронте... Вот недавно пошли мы в деревеньку за молоком. Попили, а хозяйка на дорогу спелых вишен дала. Я их в нагрудный карман своего кителя положил. Стали подходить к окопам, и вдруг шальная пуля, теряющая убойную силу, прямо под сердце шмяк - и упала в дорожную пыль, лишь вишни размазала, а я невредим остался. Вот и воюю дальше за Русь святую против германских супостатов...
- Ты не погибнешь, - восторженно шепчет Надежда, - ты не погибнешь, потому что ты вечный. Таким тебя моя любовь сделала. В жизни у каждого есть свое солнце. Без тебя мое солнце закатится...
Но она ошиблась. Через два месяца пришло сообщение о том, что ее муж "пал смертью храбрых в боях за царя и отечество". Пуля все-таки нашла его. А у нее осталась всего лишь фотография Ивана Загорулько, на обороте которой коричневой тушью было написано: "Моему полевому цветку, моей ласточке Наденьке"...
После второго замужества она поместила этот снимок в семейном альбоме, но, видя недовольство Александра Сергеевича, сразу коротко и решительно ему заявила: "Прошлое каждого из нас не должно касаться ни тебя, пи меня".
Александр Сергеевич надулся, долго копался в своих бумагах, наконец нашел не очень удачную фотографию Насти и вставил в тот же альбом на самое видное место. Он не подумал о том, что ревнивые люди подчас интересны тем, что превращаются в обиженных детей. Предъявляя другим обвинения, они забывают о своем прошлом и видят только поступки тех, кого обвиняют, дающие им право на ревность. Надежда Яковлевна вздохнула и молча снесла этот ответный выпад.
У нее был твердый и не очень легкий характер. Она никогда не устраивала мужу сцен, не набрасывалась на него с упреками. В самые тяжелые минуты она молча переживала свои обиды, а это всегда ранило больнее всего. Если бы ее спросили, любит она Александра Сергеевича или нет, она бы, вероятно, долго не могла на этот вопрос ответить, потому что в памяти ее неминуемо воскресал бы облик первого мужчины, которому отдала она свою любовь. Но если бы кто-нибудь утвердительно ей сказал, что она не любит своего нового мужа, она бы ожесточенно стала возражать и оказалась бы правой. Нет, она любила Александра Сергеевича, по по-своему, отдавая дань его доброте и сговорчивости после какой-нибудь минутной вспыльчивости, его умению прощать людям любые проступки, кроме явно подлых.
А как она любовалась им, если, поднявшись среди полночной тишины, видела, как пробивается из приоткрытой двери кабинета полоска света и он, ее Саша, обложенный книгами, готовится к очередной лекции.
- А, это ты, - приветствовал он жену в таком случае, не поднимая головы, - завтра я должен им рассказывать о логарифмах. Возможно, найдутся те, кому лекция покажется скучноватой, и, чтобы их подбодрить, я думаю начать с таких слов: "Мои дорогие воспитанники, будущие землеустроители и гидротехники! Геодезия - предмет чрезвычайно строгий и никакой развлекательности не терпит. Не могу же я вам, право слово, выйдя к доске, спеть арию Лепского. - Голос его рассыпался тихим дребезжащим смешком. - Вот увидишь, Наденька, тут меня кто-нибудь обязательно перебьет и скажет: "А почему бы вам, Александр Сергеевич, действительно не спеть эту арию на нашем студенческом вечере?" И я тогда отвечу: "Разумеется, спою, если астма не помешает".
Бывало и по-другому. Иногда она неслышно открывала дверь и молча, стараясь не обнаружить своего присутствия, останавливалась на пороге. Видя его огромпую, почти лишенную волос голову, склоненную над тетрадью, книгой или чертежом, она гордилась им, и в эти минуты муж казался ей совсем другим. Услышав шорох, Александр Сергеевич поднимал голову, и в синевато-серых глазах его вспыхивала радость.
- Иди, иди, отдыхай. Ведь рано еще, крошка...
Весь их дом был забит книгами. И кабинетный шкаф, и навесные полки, и две плетеные корзины в коридоре, и этажерки в детской. А как он умел пересказывать сыновьям книги Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера! Она и сама заслушивалась не однажды.
И все-таки стояла между ними преграда, а какая, Надежда Яковлевна и сама не могла понять. И как ее устранить, не знала. Иной раз даже раздражалась, когда в разгар таких размышлений будто из далекого туманного облака наплывало вдруг ясное, ничем не озабоченное лицо Ивана Загорулько. "Уйди, теперь ты мне ничем не поможешь", - вздыхала она про себя.
С такими беспокойными думами и заснула Надежда Яковлевна после встречи братьев, и сон ее не был спокойным и безмятежным, а в уголке рта на правой щеке появились и застыли две глубокие бороздки.
По привычке она проснулась рано и по свету, проникавшему сквозь ставни в большую комнату дома, которую они несколько торжественно именовали залой, попыталась определить, который сейчас час. "Если зайчики прыгают у ножки стола, значит, больше шести", - предположила она: Стараясь никого не разбудить, Надежда Яковлевна оделась и стала собираться на рынок. Вспомнила о том, что накануне обещала взять с собой ребят, и осторожно открыла дверь в детскую. Гриша спал настолько крепко, что даже всхрапывал. Сбитое ногами одеяло валялось на полу. Подумав, Надежда Яковлевна не стала мальчика будить. Венька заворочался в эту минуту и раскрыл глаза.
- Ты куда, мама? На базар? А я? Ты же обещала.
- Тише, тише, дружок, - приложив палец к губам, остановила она его. - Не горлань. Одевайся поскорее и марш со мной.
- Ура! - шепотом отозвался сын и соскочил с узкой железной койки.
Вскоре они уже шли по еще сонной окраине. Аксайская улица, душная от запаха цветущих акаций и клубящейся за заборами то белой как снег, то красновато-пышной персидской сирени, еще не сбросила с себя дрему. Пастух только что прогнал общественное стадо, и облако пыли едва улеглось. У сложенного из красного кирпича бассейна, где полная, разговорчивая старушка Ниловна отпускала за полкопейки ведро воды, уже стояли две казачки с коромыслами, о чем-то оживленно судача.
До Азовского рынка отсюда было рукой подать - всего три квартала. Семилетний Венька обожал эти походы на базар. Он с удовольствием нес вместительную кошелку, в которой звякали эмалированные посудины для молока и меда, вприпрыжку подскакивая на еще сохранивших ночную прохладу плитах тротуара.
На углу перед самым базаром стояло высокое здание го родской пекарни. У ворот постоянно дежурили два, а то и три грузовика. Венька норовил подальше оторваться от стесненно шагавшей впереди мамаши и как вкопанный останавливался у ворот, жадно ловя раздувающимися ноздрями запах свежеиспеченного хлеба. Ах, какой это был запах! Возможно, те, кто говорит, что в Новочеркасске нет более прекрасного запаха, близки к истине. В нем бродили и ароматы степной земли, и возбуждающие дыхание запахи хорошо подошедшего, круто замешанного теста, и острое, чуть отдающее дымком благоухание светло-коричневой хрустящей корочки каравая. Зажмурив от счастья глаза и почесывая голую ногу каблуком сандалеты, Венька с замирающим сердцем думал: "Вот бы хорошо прямо сразу отломить большой кусок от такого каравая и съесть его в один миг, не сойдя с места". Какой, наверное, это необыкновенный был хлеб! Но подходила мать и разрушала его возвышенные мысли одним прозаическим недовольным восклицанием:
- Ну, чего встал? Чего кошелку волочешь по земле? Идем быстрее.
Венька вздыхал, в тысячный раз убеждаясь в том, что взрослые никогда не научатся понимать маленьких, ими же рожденных. Он продолжал путь, время от времени с укором взглядывая на мать.
Азовский рынок в том году являл собою картину великого изобилия земли донской. Торговые ряды были забиты продовольствием, казалось, все здесь было в наличии, кроме птичьего молока, которое кто-то позабыл доставить. И редиска, и молодой лук, и первая крупная алая клубника, и огромные сазаны, и сулы со сверкающей на солнце чешуей. Десятками и сотнями продавались за бесценок раки. На деревянных помостах рядами стояли крынки с молоком, сметаной и каймаком, бутылки с янтарным и коричневым подсолнечным маслом, банки и соты с белым пасечным медом, освежеванные гуси, индейки и куры.
Венька терпеть не мог этого места. Пока мать приценивалась, торговалась и, отсчитав деньги, погружала продукты в кошелку, он со скукой толкался в толпе, грозившей его завертеть, как щепку в водовороте. Серо-карие глаза его становились тоскливыми, и он снова мрачно почесывал одну ногу другой. Но вот мать с бисеринками пота на лбу склонялась к нему и устало говорила:
- Фу-у, кажется, можно и домой возвращаться.
И тут наступало мгновение, ради которого он всегда так стремился ходить с матерью на базар.
- Ма-ам, - жалким голосом тянул Венька, - а туда мы с тобою пойдем?
- Куда это туда? - прикидываясь непонимающей, спрашивала Надежда Яковлевна.
- Да на толчок, - жалобно тянул Венька.
- Некогда уже, - с напускной сердитостью говорила мать. - Дома отец и Гриша ждут, пора и завтракать, а у меня ничего не готово.
- Ма-ам, ты же обещала, - еще настойчивее подступал к ней Венька, и подбородок его начинал вздрагивать от обиды. - А сама говоришь, что слово надо держать.
- Ну вот еще, опять яйца курицу учат, - возмущалась Надежда Яковлевна.
- Ты не курица, мам,- фальшиво хныкал Венька,- ты орлица.
Он сказал это однажды за столом при гостях, чем вызвал взрыв хохота, и теперь во всех трудных ситуациях к месту и не к месту повторял этот свой неотразимо действующий на нее "афоризм".
- Ладно, идем, - сдавалась мать, - я по пути куплю в пассаже два фунта телятины. Отцу она очень полезна. А ты дай слово, что ничего не будешь клянчить.
- Даю, мама, ура! - отчаянно кричал Венька.
Толкучка в ту пору была в двух шагах от рынка: стоило только пересечь широкий Платовский проспект или просто Платовскую, как его именовали многие горожане, и пройти через мясной пассаж.
Венька всегда норовил остановиться на самой середине Платовского. Уж больно интересно было сначала повернуть голову направо и над тополиными зелеными верхушками увидеть впечатанные в синеву неба купола кафедрального собора, сверкающие нетускнеющим золотом крестов. От этого вида аж дух захватывало. А потом было не менее интересно: словно по солдатской команде "Налево" повернуть голову и бросить взгляд на знаменитую триумфальную арку, построенную к ожидавшемуся приезду царя Александра I, но так им и не осуществленному. Желтые ворота стояли на самом спуске проспекта. Здесь вторая по значению улица Новочеркасска словно бы ломалась: сначала устремлялась резко вниз, а потом круто поднималась вверх и превращалась в широкую дорогу, по которой можно было ехать или скакать и в Ростов, и на хутор Мишкин, где многие годы жил Платов, и даже в Таганрог, где умер Александр I, так и не осчастлививший столицу Дона своим визитом, и во многие другие кавказские города, которые даже и присниться не могли Веньке. Мальчик буквально замирал на этом месте и простаивал до тех пор, пока заждавшаяся мать сердито не дергала его за ухо.
- Заснул, что ли? Если не хочешь идти на толчок, повернем домой.
Но на толчок они сегодня попали, купив по дороге в пассаже два фунта телятины. Под толкучку в городе была отведена параллельная рынку улица. Ее неширокое пространство с рядом разноцветных киосков в утренние часы было всегда заполнено бурлящей говорливой толпой. Здесь можно было увидеть и босяков, при встрече с которыми почтенные обыватели начинали хвататься за свои карманы, и крикливых пышнотелых перекупщиц в ярких кофтах с короткими рукавами, с красными от избытка здоровья лицами, и профессора, зашедшего поискать редкую книгу.
Всякий, кто заплатил двугривенный, имел право, переступив границы толкучки, продавать на ней что угодно и по какой угодно цене. Никаких торговых рядов тут не было. Мелкие вещи, в основном разную обувь и одежду, обычно продавали с рук. Но чаще всего обыватели, оплатившие свое право на торговлю, располагались прямо на мостовой. На разогретые солнцем булыжники они стелили старые продранные одеяла, мешки или покрывала предельной ветхости и выставляли на них свой товар. И бог ты мой, что это был за товар! Все можно было увидеть и приобрести на толкучке: и потускневшие канделябры платовской поры, и ржавые сабли, в свое время орошенные кровью янычар, и самовары из меди и белого никеля, и самого разного происхождения в простой и нарядной оправе иконы с ликами святых.
В черных крылатках, с худыми, нездоровыми, посеревшими лицами живописцы за бесценок сбывали свои неудавшиеся шедевры, с горечью вспоминая, что, когда брались за кисть, мечтали созерцать их на лучших вернисажах России, рядом с картинами Репина, Левитана, Саврасова и других. Были бабушки, монополизировавшие торговлю уродливыми разноцветными глиняными копилками в виде кошек, лисиц, собак или уточек с разинутыми ртами, требующими немедленного пожертвования. И странное дело, товар этот в те времена пользовался немалым спросом. Была тогда мюда дарить такие копилки и новорожденным, и новобрачным, и даже новобранцам.
На разостланных покрывалах стояли ботинки, сапоги, туфли, либо новые, либо изрядно поношенные, либо совсем старые, но покрытые обманным лаком, способным облезть при первой капле дождя. Коллекции марок, расписные игрушки, колоды карт - все было на толчке. Но особую его гордость составляли дяди и тети, торговавшие старыми книгами, те самые, что гордо именовали себя букинистами. Карманники и аферисты, наводнявшие в ту пору толчок, из одного уважения к загадочному слову "букинист" относились к ним с откровенным почтением, п даже самые неисправимые из них никогда не пускали в общение виртуозного матерного слова. А в каких только обложках и каких времен не продавались книги! Рядом с подшивкой "Красной Нивы" лежали комплекты старой "Нивы", рядом с сочинениями Максима Горького - сочинения графа Салиаса или "Любовные утехи Екатерины Второй". Для любителей находились комплекты царских марок и денежных знаков. Единственную осечку допустил один из букинистов, за что и был едва не побит, - когда он осмелился рядом с портретом немецкого естествоиспытателя и путешественника Брема выставить для распродажи портрет Николая Второго в изящной лакированной рамке. При всеобщем бурном восторге кто-то на своей коленке разломил этот портрет и одну из половинок бросил в лицо продавцу, который еле успел увернуться.
- Ты что продаешь, контра! - рявкнул широкогрудый лохматый парень в матросской тельняшке.
Надо сказать, что, хотя в Новочеркасске мелководный Аксай раз и навсегда исключил возможность базирования военно-морского флота, полосатая тельняшка была в те годы любимой формой одежды рыбаков, владельцев баркасов и лодок, иных рабочих парней, и в особенности блатных, которых появлялось на толкучке великое множество. Дюжий парень выглядел настолько угрожающе, что насмерть перепуганный старик жалко пролепетал:
- Не бейте меня, дорогой товарищ... Это я сослепу Николашку сюда принес. Думал, второй портрет Брема.
Толпа, сгрудившаяся вокруг букиниста, расхохоталась, и конфликт на том завершился.
Венька любил толчок за его пеструю разноголосицу, за веселое треньканье балалаек, гитар и мандолин, которые тут же опробовались покупателями, за бойкий торг продавцов. Но еще больше он любил слушать одноглазого дядю Тему, ежедневно распевавшего здесь то озорные, а то и вовсе полусрамные частушки, смысл которых далеко не всегда доходил до мальчика. Надежда Яковлевпа наперед уже знала, как Венька поведет себя на толчке, и он никоим образом ее не озадачил, когда стонущим голосом стал канючить:
- Мам, там дедушка солдатиков продает... купи.
- Да у тебя дома целая коробка!
- Те не такие... Эти настоящие, английские. Купи!
- Денег уже не осталось после базара, Венечка.
- А зачем ты мясо покупала в пассаже, могли бы без телятины обойтись.
- Ты что же, родного отца голодным хотел оставить? Венька для порядка пошмыгал носом, но, убедившись, что его тактический прием никакого впечатления на родительницу не производит, сдался.
- Тогда пойдем хоть дядю Тему послушаем.
- Это можно, - согласилась мать, чтобы хоть таким образом отвлечь его.
Дядя Тема был такой же неотъемлемой, частью Новочеркасска, как памятник Ермаку или собор. Никто не знал, когда и откуда он пришел, где и при каких обстоятельствах потерял левый глаз, всегда скрытый под черной повязкой. Справедливости ради надо сказать, что весьма редко он все же повязку снимал, и тогда все видели в глазнице мертвый зрачок. Каждый день, если не было лютого мороза либо проливного дождя, приходил он, высокий, костистый, с тяжелым баяном на плече и посохом в правой руке, на толкучку и в самом конце ее устраивался на сбитом из неотесанных досок пустом папиросном ящике со штампом донской табачной фабрики.
Он снимал со своей лысеющей головы кожаную фуражку, которую носил в прохладные дни, либо соломенную шляпу, если это было летом, и клал свой головной убор на булыжную мостовую так, чтобы люди могли бросать в него мелочь. Сняв с плеча баян, он устраивал его на коленях, и, едва только сильные пальцы пробегали по клавишам, народ окружал его со всех сторон, позабыв о двух-трех слепцах, постоянно певших под балалайку дурными голосами.
- Почтенные сыны и дщери славного города Новочеркасска, сейчас я вам представлю в полной форме свою лучшую программу с прологом и эпилогом, - откашлявшись, с достоинством обращался дядя Тема к собравшейся толпе своим довольно хорошо поставленным баритоном. Сегодня он был в редкостном ударе. Надежда Яковлевна успела протолкнуть Веньку в самый первый ряд слушающих. Под сильными, покрытыми синеватыхми ногтями пальцами зарыдали клавиши, и, как ей показалось, единственный глаз дяди Темы вперился в нее. С минуту она испытывала на себе непонятно-тяжелый чужой взгляд, а потом растянулись мехи баяна, и грустная песня поплыла над головами людей.
Скакал казак через долины, Через маньчжурские поля...
Чуть хрипловатый баритон брал за душу, к тому же дядя Тема отличпо себе аккомпанировал, и толпа росла. С невозмутимо застывшим лицом пел он частушки, вызывающие взрывы смеха:
Раньше были времена, А теперь моменты, Даже кошка у кота Просит алименты.
Лузгая в первом ряду семечки, хохотали дородные казачки, приходившие на толкучку, как в театр. Смущенно отворачивались с пунцовыми щечками ученицы старших классов, с наигранным возмущением отходили в сторону иные интеллигенты, бабушки в капорах покачивали головами, но оставались на месте. Все это фиксировал единственный глаз дяди Темы, пока пальцы давили клавиши.
- А теперь слушайте еще один оригинальный куплет! - воскликнул он и, подмигивая, запел:
Муж в Москве, жена в Париже, А рожает каждый год. Значит, дело по антенне Через радио идет.
И снова грохнула толпа, и в фуражку его со звопом полетели медяки и гривенники.
- Беленьких побольше бросайте! - закричал в эту минуту дядя Тема. - Не забывайте, что и я обитаю по принципу: цыпленок тоже хочет жить.
И вдруг в наступившей тишине, пока слушатели ощупывали свои карманы в поисках мелочи, прозвучал звонкий голос Веньки:
- Мама, а какое дело через радио идет? Я не понимаю. И снова захохотала толпа, а рыночный завсегдатай в тельняшке, скабрезно усмехнувшись, гаркнул:
- Вот-вот, объясни ему, мама. А еще лучше, пусть сынок у папки спросит.
Надежда Яковлевна подхватила тяжелую кошелку, дерпула сына за руку и, ускользая от липучего смеха, раздававшегося ей вслед, быстро выбралась из толпы. Венька решил, что она обязательно будет его ругать, но мать вдруг сама рассмеялась и легонько, совсем не всерьез, хлопнула его по загривку.
- Да ну тебя, Вепиамин, со смеху с тобой пропадешь, да и только.
В это время на толкучке появился милиционер в аккуратно заправленной под новый ремень гимнастерке, с белым свистком в руке. Подойдя к гармонисту, укоризненно покачал головой:
- Кончайте бузу, гражданин. Надоело слушать ваше похабство.
Толпа заволновалась, загалдела:
- Чего придираетесь? Чего человек тебе такого сделал, служивый?
- Да я ничего, - отступил милиционер, - только бы пели вы, гражданин, лучше революционные песни.
Дядя Тема развел руками, широко растянул мехи баяна, сдавил их и улыбнулся, хотя единственный глаз смотрел на блюстителя порядка не по-доброму.
- Революционные? - переспросил он. - Могем и революционные.
Над толкучкой и над деревянным ящиком, на котором сидел гармонист, пронесся до боли знакомый каждому русскому человеку напев:
Наверх, вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый "Варяг", Пощады никто не желает.
- Это не революционная, - возразил милиционер категорически. - Это про войну с японцами песня. А по чьему приказу такая война велась? По царскому.
- Вы чудак, простите, пожалуйста, - сказал один из букинистов, успешно распродавший в этот день свой товар. - Это великолепная песня о героизме русских моряков, и царь тут совершенно ни при чем.
- Какой же тут героизм, если моряки шли в бой за интересы самодержавия... под палкой шли, - не сдавался милиционер.
Спор грозил разгореться, но дядя Тема, желая его почему-то прекратить, громко, с широкой улыбкой выкрикнул:
- А вот эту хотите? - И мгновенно бодрым маршем разразился в его умелых руках баян.
С неба полуденного жара - не подступи! Конная Буденного раскинулась в степи.
И песня эта была как бы примирением. Стихли голоса спорящих, а некоторые, в том числе и милиционер, стали подтягивать. Только здоровенный детина в тельняшке, явно уголовного обличил, проворчал:
- Подумаешь, один легавый притопал и сразу всем настроение попортил. Ну и жизнь пошла...
А длинные, сильные пальцы дяди Темы цепко вдавливались тем временем в клавиши, высекая бурные аккорды. Закончив песню, он галантно раскланялся перед слушателями:
- Дорогие граждане! На сегодня концерт закончен. Но это не означает, что мои песни смолкли навсегда. Приходите завтра, и мы начнем нашу новую программу, как и обычно, в восемь утра. Вас ожидают новые премьеры. В добрый путь, граждане!..
Когда толпа рассеялась, он поднял с земли старую кожаную фуражку, испытывая удовлетворение от того, что она стала тяжелой от брошенных монет, и деловито пересчитал гонорар.
- Ого! - пробормотал он себе под нос. - Оказывается, четыре полтинника. Л какой-то чудак целковый бросил. Ничего, вполне достойное вознаграждение. А ну-ка, баян-кормилец, давай-ка я подниму тебя на плечо, ты явно это сегодня заслужил.
Дойдя до первой пивной, он протиснулся в ее узкие двери и, не отходя от прилавка, выпил полный стакан водки, закусив его всего-навсего бутербродом с кильками. Отряхнув от налипших крошек тяжелые ладони и поправив черную повязку на незрячем глазу, он подмигнул на прощание продавцу и ухмыльнулся:
- Одним словом, веселие Руси есть пити, без этого не может и быти. Так, кажется, говаривали наши древние? А?
С этими словами он покинул пивнушку и медленно побрел по городу походкой человека, которому некуда спешить. Платовский проспект пересекала широкая улица, круто взбегавшая в гору и упиравшаяся в серое, с колоннами, здание Донского политехнического института, считавшегося гордостью Новочеркасска. Здесь дядя Тема свернул налево, по пути зашел в небольшой магазинчик, где купил кус колбасы, еще теплую после пекарни белую булку, копченого рыбца и четвертинку водки. Солнце уже высоко вскарабкалось на небо, когда приблизился он к маленькому домику на углу Барочной и Ратной улиц и, открыв скрипучую калитку, очутился в тесном запущенном дворике, где не было ни кустов сирени, пи вспаханных картофельных грядок, ни побегов дикого винограда на стене ветхой, давно не ремонтированной террасы. В этом дворике, кроме деревянного одноэтажного домишки, не было никаких строений, за исключением так называемой халабуды, или, попросту говоря, шалаша, сооруженного над отхожим местом.
В этом дворике и снимал дядя Тема комнатку у престарелой вдовы ветеринарного фельдшера тетки Глафиры, женщины крупной, костистой, но очень болезненной, постоянно охающей, вздыхающей и кашляющей и словоохотливо рассказывающей про все свои педуги. Она уже ждала его возвращения. В прихожей бурлил потускневший самовар, и чай был заварен самым крепчайшим образом. В старом штопаном платье и фартуке в пятнах от масляной краски, она близоруко щурилась, критически осматривая постояльца.
- Ну как, батюшка Артемий Иннокентьевич, улов твой на нонешний денечек? Чай, горлышко не надорвал, распе-ваючи?
Дядя Тема неторопливо разделся и вывалил, не считая, на кухонный стол четыре горсти медных и серебряных монет.
- Не надорвал, бабка Глафира, не надорвал, - солидно покашливая, удовлетворил ее любопытство квартирант. - А улов, сама видишь, каков. Денег побольше, чем у Деникина перед его отбытием из России. Бери трояк и дуй в кооперацию. Нам сегодня с тобой борщиком надо побаловаться, а то два дня уже на черствой пайке сидим.
- Это я ментом, как есть ментом, - с удовольствием пересчитывая монеты, заверила хозяйка. - И отдохнуть не успеешь, все будет в справном виде на столе стоять... Тут к тебе человечек один приходил.
- Какой это? - насторожился дядя Тема.
- А тот, который на прошлой неделе уже являлся. С тросточкой и лорнеткой. Его уличные ребята, знаешь, как окрестили? Дядя барин Кошкин-Собакин.
- Устинов, что ли?
- Известное дело, он.
- И что сказал?
- Сказывал, чтобы ты, батюшка Артемий Иннокентьевич, к семи часам вечера был у того самою, что с тремя орденами но Новочеркасску разгуливает.
- У Прокопенко, что ли? - усмехнулся дядя Тема. - Как же тебе не стыдно, бабка Глафира, забывать фамилии лучших людей города.
- Память слаба стала, батюшка, - вздохнула Глафира, - весь город знает и поклопяется, а я запамятовала. Недаром гутарят, что старость не радость. И еще финагент приходом.
- А этому какого черта надо?
- Требовал, чтобы ты на бирже труда отметился как неработающий.
- Делать им больше нечего, - проворчал жилец.- Ну ладно, бабка Глафира, ступай-ка за провиантом.
Оставшись в узкой десятиметровой комнатке, всю обстановку которой составляли железная койка с провисшей пружиной, платяной шкаф и столик с приставленным к нему стулом, дядя Тема первым делом отрезал кусок колбасы и залпом выпил еще с полстакана водки, угрюмо косясь на пустынный дворик, а потом завалился спать. Когда он проснулся, на кухне уже скворчала сковорода с яичницей и слышалось бормотание бабки Глафиры.
- Очнулся, касатик? - осведомилась она. - Умывай лик божий. Обед тебе на кухне подам.
Дядя Тема в глубоком молчании съел обед и вновь, зевая, повалился на кровать. Неодолимая тоска сковала тело. Он лежал и мрачно думал: "Черт побери, до чего же наскучило играть нудную роль полунищего слепца! Эх, если бы кто-нибудь из тех зевак, что кидают на толкучке пятиалтынные и гривенники в его потертую кожаную кепку, увидел бы хоть раз десять лет назад, как я, единственный наследник князя Столешникова, которого всегда с почтением называли Артемием Иннокентьевичем, бросал в "Яре" пригоршни золотых монет в полюбившуюся цыганку Полю и как, возвращаясь домой, нанимал целый эскорт экипажей для сопровождения собственной персоны, то лишился бы дара речи от изумления. Да, все это было, но навсегда стало устойчивым прошлым..." В этом он, бывший есаул казачьего полка, уже не сомневался. Когда-то он был знатным, избалованным светским офицером, снискавшим успех у многих дам высшего круга, близким товарищем фаворита судьбы - самого барона Врангеля... Теперь же по паспорту он числился совторгслужащим Моргуновым, но всей новочеркасской толкучке был известен как баянист дядя Тема. Про обеды с устрицами и шампанским и про парадные марши в составе лейб-гвардии казачьего полка по Дворцовой площади Петрограда пришлось забыть, как и про многое другое, что было привычным в те годы его жизни. Вместо всего этого - черная повязка на лице от раны, полученной на Перекопском перешейке, когда еле-еле удалось унести ноги от красных.
Да, сурово изменилось время, и никто не признает теперь в бедно одетом гармонисте бывшего офицера. Впрочем, так оно и лучше, ибо в противном случае он бы уже давно сидел в подвалах ЧК. А врать, что глаз он потерял . при штурме Новороссийска в составе красной кавалерии, Артемий Иннокентьевич умел достаточно убедительно. Он даже всхлипывать в это время начинал, если бывая под хмельком, живописуя, как от пули, споткнувшись, упал любимый вороной Изумруд и он прижался щекой к окровавленной лошадиной морде, увидев в затухающих глазах верного четвероногого друга слезы.
"Все течет, все изменяется, - усмехнулся про себя Артемий Иннокентьевич, - так, кажется, говорят марксисты. Вот и мне надо покориться этой формулировке до времени, пока не воскреснет на русской земле старый добрый гимн "Боже, царя храни". А сейчас надо петь вместе со всеми "Вставай, проклятьем заклейменный", и делать это как можно лучше".
Вечером, в начале седьмого, тщательно выбритый, в неброском, но хорошо отглаженном стараниями бабки Глафиры темно-сером костюме он вышел из дома. Чтобы не быть узнанным, он снял повязку, без которой никогда не выходил на базар, надел очки с темными стеклами, а в правую руку взял трость с набалдашником. Шаг у него был твердый и уверенный, как и у всякого человека, который хорошо знает, куда и зачем он идет.
По выпуклой мостовой Ратной улицы Моргунов дошел до Московской, быстро ее пересек и углубился в тихие переулки. Сейчас он мало чем походил на жалкого баяниста дядю Тему. Под пиджаком жесткие его плечи туго обтягивала военная гимнастерка без петлиц. Такие носили тогда и бывшие красноармейские командиры, и городские партийные работники, и деятели только что народившегося Осоавиахима.
В тихом переулке стоял одноэтажный дом с высоким цоколем и фасадной стеной, сложенной из голубого отполированного камня. Над резной дверью парадного в простенке бодрствовала серокаменная кукушка с настороженными выпуклыми глазами. Окна были высокие, створчатые. На трех занавески белые, па четвертом - розовые. Есаул Моргунов успокоенно вздохнул и посмотрел на часы. Было без пяти семь. Розовая занавеска была условным знаком: все благополучно, можно заходить. Он равнодушно прошел мимо дома и огляделся. Кроме двух-трех прохожих да старушек, прогуливающихся с детьми, никого. Моргунов по-военному круто повернулся и возвратился к парадному с таким расчетом, чтобы оказаться у порога ровно в семь. Тяжелая резная дверь приоткрылась, и голос невидимого за ней человека кратко произнес:
- Входите, Артемий Иннокентьевич, милости прошу. Все уже в сборе.
Когда Надежда Яковлевна и Венька возвратились с базара домой, солнце уже вовсю светило над окраиной Новочеркасска, над железной крышей их дома и займищем, где еще поблескивали оставшиеся от разлива непросохшие ерики и щетиной стояла стена прошлогоднего побуревшего камыша у Борисова озера. Отец давно открыл все окна, и дом был залит веселым светом наступившего дня. Гриша рубил дрова для сложенной во дворе печурки. Надежда Яковлевна готовила па скорую руку завтрак - телятину с макаронами и кипятила молоко, когда в коридоре появился Александр Сергеевич.
- Наденька, зайди ко мне на минуту. Я в кабинете.
- Молоко убежит, Саша, - ответила она сдержанно.
- А ты Гришатке его поручи.
Переступив порог кабинета, она увидела Александра Сергеевича сидящим за столом и крайне взволнованным. Венька стоял в углу с зареванными глазами и усиленно протирал их кулачками.
- А ну, повтори! - сердито приказывал отец сыну. - Ибо, если не повторишь, я тебя как последнего арестанта весь день держать в углу буду. Иначе ваше поколение не образумишь.
- Что у вас тут случилось? - спокойно спросила жена.
- Вот ты ей, Венечка, надежда всего якушевского рода, и продекламируй, - ехидно выкрикнул отец.
- А пороть не будешь? - деловито осведомился Венька.
- Не буду, - заверил Александр Сергеевич.
- Тогда слушайте, - обратился к ним младший сын и продекламировал частушку, смысл которой так и остался ему непонятным:
Муж в Москве, жена в Париже, А рожает каждый год. Значит, дело по антенне Через радио идет.
- Тебе ясно теперь, дорогая Наденька? - язвительно продолжал отец и небрежно кивнул Веньке на дверь. - А теперь иди, мы с мамой одни поговорим. Но Венька, выйдя из комнаты, остался у двери, чтобы подслушать их разговор.
- Я понимаю, Наденька, - донесся до его слуха ворчливый голос родителя. - Новочеркасск город провинциальный. Театр оперы и балета здесь еще никем не выстроен. Да и арию Ленского некому петь.
- Как некому? - засмеялась Надежда Яковлевна. - А ты?
- Оставь шутки, - нахмурился Александр Сергеевич.- Лучше объясни, зачем водить мальчика на импровизации этого пьяницы дяди Темы? Не могу понять!
- Он не пьяница, он хорошо поет! - закричал из-за двери Венька. - А я вот и еще одну его частушку знаю. Только он ее не сегодня пел, а в запрошлую субботу.
- Ну-ну, - с ухмылкой опытного инквизитора сказал отец, - вернись и повтори, дабы я имел о вашем дяде Теме полное представление.
- А не побьешь?
- Нет, разумеется.
Скрипнула дверь. Венька остановился на пороге и, озираясь по сторонам, продекламировал:
Я мать свою зарезал, Отца похоронил. А бабушке Матрене Я титьки отрубил.
- Какое потрясающее вдохновение, какая изумительная память, - зловеще отозвался Александр Сергеевич.
Неизвестно, чем бы закончилась сцена, если бы в эту минуту в коридоре не раздался громкий восторженный смех. Две сильные руки подхватили мальчика и, оторвав его от пола, подбросили почти до самого потолка.
- Ай да лихой же ты парень, Венька! Да с такими задатками тебе лишь один-разъединственный путь - к нам в кавалерию. В интеллигентном обществе такого орла не поймут.
Венька увидел бритое, пахнущее одеколоном лицо дяди Павла, его командирскую фуражку со звездочкой и синим кавалерийским околышем и понял, что это пришла защита.
- Это ты, братишка? - с некоторым удивлением воскликнул Александр Сергеевич.
- А что? Уже не нравится, что зачастил? Терпи. Я ведь однажды уже тебе сказал, что буду не раз в год визиты наносить.
- Да нет, что ты, что ты! - испуганно перебил его Александр Сергеевич.
Павел опустил Веньку на пол.
- Пока ты тут педагогическим воспитанием сына занимался, мы с Гришаткой и молоко вскипятили, и телятину с макарончиками жареными с плиты сняли в самом что ни на есть готовом виде. Так что, родители, пора и за стол, - с шутливой чопорностью поклонился он.
- Ну и молодец же вы,- рассмеялась Надежда Яковлевна, - с таким гостем хозяйке действительно нечего делать.
Пока она накрывала на стол, братья остались в кабинете, и Павел Сергеевич негромко заговорил:
- Я, разумеется, к тебе не беспричинно, Саша. - Он снял фуражку, положил ее на стопку книг, лежавшую на полу, растопыренными пальцами откинул назад густые разметавшиеся волосы, и они, как ручейки, заструились между пальцев. Александр Сергеевич откровенно залюбовался им.
- Повезло тебе, братишка. Ишь какую копну волос сохранил. А моя голова голая, как глобус...
- Посоветоваться с тобою надо, брат. С кем же еще, как не с тобою, - перебил его Павел.
- Я тебя слушаю. Что-то случилось?
- Случилось, - подтвердил Павел. - Утром все шло чин по чину. Провел вместе со своим комиссаром построение полка, на котором подвели итоги боевой и политической подготовки за последний месяц. Распустил личный состав, чтобы все занимались по расписанию, и вдруг звонок из горкома партии. На двенадцать ноль-ноль вызывает первый секретарь, чтобы сообщить предложение крайкома. Короче говоря, ему поручается провести со мною предварительную беседу. А вариантов два: либо на учебу в академию Генштаба, либо остаться здесь, в Новочеркасске, и временно исполнять обязанности председателя горсовета. Что бы ты мне посоветовал в такой ситуации?
Александр Сергеевич потер небритый подбородок, сипло дыша, без одобрения в голосе произнес:
- Странные вы люди.
- Кто это мы? - осведомился Павел.
- Вы - большевики.
- Чем же?
- Царя с буржуями скинули и уже полагаете, что все сделано и вы самого господа бога схватили за бороду. А помоему, управлять государством еще труднее, чем врагов победить. Вы же с необыкновенной легкостью за все беретесь. Без какой-либо эрудиции. Да что там эрудиция! Без элементарного образования даже. Или вы всерьез верите, что каждая кухарка в состоянии управлять государством, и, основываясь на этом, полагаете, что выведете Россию из разрухи?
- Выведем, - жестко ответил Павел, - и еще увидишь, какой она станет лет этак через двадцать. А Ильича ты не трогай. Не для того он эти слова сказал, про кухарку, чтобы их за догму принимали. Это же образ, зовущий всех нас вперед! Вот как в ваших операх образ, так и этот. А что касается нас, большевиков, одно тебе скажу: да, мы лицеев и сорбоннских университетов не кончали, но на баррикады революции нас привела великая идея борьбы за Советскую власть. И раз мы ее ценою собственной крови завоевали, то и распоряжаться ею научимся, и знания для этого подходящие приобретем, потому что не боги горшки обжигают.
Александр Сергеевич снял очки с таким видом, словно без них лучше мог запомнить лицо своего старшего брата.
- Не знаю, не знаю. Честное слово, не знаю. Может быть, я и на самом деле многого не понимаю в окружающей нас действительности.
- Еще научишься понимать, Саша, - вздохнул Павел.- Однако мы с тобой отклонились от темы. Я так и не получил от тебя совета.
- Как тебе поступить? - медленно произнес хозяин дома и поднял на брата подслеповатые глаза. - Я все время думаю, - неожиданно улыбнулся он. - Спорю и думаю. Нелегкая у тебя жизнь, братик. Спина жандармскими плетками исполосована, на фронтах голову пулям не раз подставлял. Госпожа смерть в глаза твои, если разобраться, не однажды ведь заглядывала. Получается, что по всем законам классической логики тебе теперь одна дорога - к самой высокой военной карьере. Следовательно, военная академия в самый раз по плечу.
Павел молчал, только серо-синие глаза его немного сузились под широкими бровями. Александр Сергеевич глубоко вздохнул, давая понять, что он еще недоговорил, и костяшками пальцев постучал по письменному столу. Зеленое сукно скрадывало звуки, и стука старший брат не расслышал.
- Это с одной стороны, - вздохнул он. - Ну а с другой... Ведь ты же донской казак, Павлик. Даже коней своих в память о нашем знаменитом деде Зябликами именуешь. И если тебе дорог родной Новочеркасск, уже не "столица белой Вандеи", как его называли недавно, а красный Новочеркасск, то...
В эту минуту растворилась дверь и на пороге появилась приодевшаяся Надежда Яковлевна.
- Братья дорогие, скромный наш завтрак уже остывает.
- Погодите, друзья, - улыбнулся Павел, - где-то я читал, что у какого-то народа женщины были жрицами.
- Совершенно верно, например, в той же самой древней Греции, - подсказал Александр Сергеевич.
- Вот-вот, - улыбнулся старший брат. - Представим на мгновение, что мы и есть древние греки, а Надежда Яковлевна на нынешнем семейном совете - наша жрица, и мы ждем ее слова как решающего приговора.
У Надежды Яковлевны удивленно засверкали глаза.
- Я вас не понимаю, Павел, - заинтригованно сказала она.
- Сейчас поймете. Мне сегодня предложили либо стать слушателем военной академии в Москве, либо занять здесь, в Новочеркасске, кресло исполняющего обязанности председателя горсовета. - Что вы скажете?
- Павел! - восторженно воскликнула хозяйка. - И вы еще раздумываете? Да как вы можете! Или вам не дорог казачий край? Немедленно соглашайтесь исполнять обязанности председателя горсовета! Тут и думать, скажу вам, нечего!..
- Вот видишь, Саша, какая у нас мудрая верховная жрица, - рассмеялся Павел Сергеевич. - Она развеяла мои последние колебания. Именно так я и поступлю.
- Значит, в следующий раз прибудешь к нам не на своем Зяблике, а на каком-нибудь дребезжащем "форде"?
- Нет, - улыбнулся старший брат, - с Зябликом так просто никто меня не разлучит.
Человек, отворивший дяде Теме тяжелую резную дверь голубого особняка с кукушкой в простенке, был ему хорошо знаком. Коротким кивком стриженной под полубокс головы он молча указал на полузатемненный коридор и, пропустив его вперед, пошел сзади. В коридор выходило несколько белых дверей с затейливыми позолоченными вензелями, но лишь одна из них была приоткрыта, и оттуда под ноги идущим ложился пучок дневного света. Потянув ее на себя за ярко начищенную ручку, Артемий Иннокентьевич переступил порог и оказался в просторной, богато обставленной гостиной. Из высоких, задернутых тюлевыми занавесками окон струился на ярко натертый паркет солнечный свет, стены были украшены картинами на библейские сюжеты в позолоченных багетах, и среди них - такая неожиданная и неповторимая грековская "Тачанка", скромно подписанная автором в уголке. Кресла с фигурными замысловатыми подлокотниками в кажущемся беспорядке расставлены вокруг круглого полированного столика, диван у стены и большая люстра с хрустальными подвесками под высоченным потолком. Взявшись за руки, по карнизам этого потолка бежали от стены к стене белогипсовые амурчики. Крышка рояля была поднята, ноты раскрыты.
Артемий Иннокентьевич старательно щелкнул каблуками и отрапортовал:
- Есаул Моргунов. Извините, не опоздал?
Ему навстречу из-за стола шагнул, отодвинув кресло, коренастый человек в темно-синей гимнастерке, подпоясанной узким кавказским ремешком. Сверкнули на солнце три ордена боевого Красного Знамени. Скуластое смуглое лицо под шапкой разметавшихся курчавых волос и темные глаза с большими белками делали его похожим то ли на пожилого негра, то ли на батьку Махно, каким его изображали в годы гражданской войны на страницах газет и на белогвардейских плакатах, и даже на временных, не внушающих доверия денежных знаках. Бросалась в глаза разорванная шрамом мочка правого уха. Это и был хозяин квартиры Николай Модестович Прокопенко.
- Вы точны, как в лучшие времена нашей жизни и службы, - сказал он вошедшему, грустно улыбаясь. - Знакомьтесь, господа. Это один из наших самых мужественных членов группы "Белая астра", есаул лейб-гвардии казачьего полка Моргунов. А теперь, любезнейший Артемий Иннокентьевич, познакомьтесь и вы с нашими гостями.
Почтительным кивком головы Прокопенко указал на седеющего брюнета с картинными завитками усов и надменно застывшими голубыми глазами.
- Полковник генерального штаба его императорского величества Игорь Владимирович Темников. - Отрекомендованный удостоил Артемия Иннокентьевича лишь тем, что опустил на мгновение веки и поднял их снова. Ни одна черточка на его лице не пошевелилась больше.
- А это князь Думбеков, - подошел Прокопенко ко второму, смуглому, лет сорока горцу с заостренными чертами узкого лица, в белой черкеске с газырями. - Наш мужественный разведчик, связывающий ныне сынов вольного Дона с сыпами вольного Кавказа, не приемлющими большевистский строй и ведущими против него мужественную борьбу. Полковник Зигмунд Сташииский. Пробрался па Дон из самой Варшавы, чтобы от вмени благородного ясновельможного панства сражаться в наших рядах. А вот поручика Рюмина я вам представлять не стану, памятуя, что вы ею превосходно знаете, - небрежно кивнул Прокопенко на долговязого блондина и вслед за этим в почтительной позе остановился перед тучным лысоватым человеком в костюметройке из дорогой черной шерсти, на пальцах которого сверкали дорогие перстни. Лицо гостя отливало багровым румянцем, а подбородок был отмечен небольшой родинкой. - Это представитель парижского центра борцов за свободную Россию, - шепнул есаулу Прокопенко, зная, что самый важный гость даже кивком не удостоит Артемия Иннокентьевича.
Потом все опять чинно расселись вокруг стола, утонув в креслах, и Прокопенко, обнажая в улыбке ослепительно белые зубы и оставаясь в то же время предельно холодным, обратился к присутствующим:
- Господа, у нас время на вес золота. Сами понимаете, что в таком составе долго заседать мы не можем. Конспирация этого требует, а она наша очень заботливая мать на данном отрезке времени. Слово имеет представитель парижского центра борьбы за освобождение святой Руси от большевиков и за восстановление порушенной ими монархии. По вполне понятным причинам более подробно я вам представить его не имею права.
"Человек без имени и фамилии из Парижа. Да и без родины также, - с неожиданно закипевшей злостью подумал Артемий Иннокентьевич. - Дожили. Не сами командуем подготовкой всеобщего восстания, а беглецам повинуемся. Ишь, какой провидец отыскался! Он оттуда, видите ли, лучше нас обо всем способен судить. Сбежал в Париж и жрет там с удовольствием устриц и артишоки всякие, а нам хоть заживо в гроб тут ложись, потому что каждый лишний шаг обдумываешь, чтобы не провалиться".
Тем временем именитый гость из французской столицы вынул из кармана золотые часы на длинной цепочке и распахнул крышку с монограммой. В наступившей тишине по комнате поплыл мелодичный звон. Механизм играл "Боже, царя храни". Долговязый поручик Рюмин, издав фальшивое рыдание, поднес платок к глазам, всплакнул и Темников, в недалеком прошлом полковник царского генштаба, издал какой-то непонятный гортанный звук князь Думбеков. Один Прокопенко сидел молча, сжав кулаки, и по его серой щеке сползла одинокая слезинка. Часы замолкли, их обладатель заговорил.' Фразы у него были четкие, рубленые, и уже по одному этому Артемий Иннокентьевич безошибочно угадал, что это бывший военный, к тому же в звании не ниже полковника.
- Господа, буду предельпо краток, - начал он. - Центр поручил мне передать вам ободряющее известие. Большевики накануне краха. Россия действительно во мгле, как написал об этом в своей книге знаменитый Герберт Уэллс. Кругом разруха, голод и запустение. Во многих крупных городах созданы и успешно действуют подпольные группы. Петроград, Москва, Минск, Киев, Ташкент, Хабаровск. И, разумеется, великий Дон, который всегда был оплотом царя п отечества. Центру известно, что ваша группа не сидит сложа руки. Центр ставит перед вами задачу. Непрерывно пропагандируйте неизбежный крах Советской власти. Приближайте к себе заслуживающих доверия лиц, а самым надежным давайте задания вести подрывную работу. Чтобы не было в ваших рядах потерь, после совершенного акта любой член организации будет получать пособие для годичного существования, документы на новую фамилию и явку или постоянную квартиру в другом городе Совдепии. В чем смысл подрывной работы? Диверсии, диверсии и диверсии. Где? На железных дорогах, заводах, элеваторах, шахтах." Распускайте как можно больше провокационных слухов, сеющих сомнения в умах людей. Цель: подрыв доверия к Советской власти и различным ее представителям. Формирование ненависти к ней и отчужденности. Отдельно о террористических актах. Без них мы победу не приблизим. Многие подпольные организации в этом уже преуспели. Остановка за вами. Не надо гнаться за числом. Можно поджечь десять овинов и уничтожить десять коммунистов, но ничего этим не достигнуть. Достаточно уничтожить одного, но видного, пользующегося доверием большевистского вожака, как волна растерянности и страха перед силой борцов за святую Русь пойдет гулять широко. Готовьте такие акты тщательно и без осечек. Ваша активность должна нарастать по мере приближения дня нашего всеобщего наступления во всех городах и селах земли российской. Вопросы есть? Тогда за дело, и да освятит вас господь. Остальные указания получите от Николая Модестовича.
Всю эту трескучую речь он произнес на одной ноте и о вопросах спросил скороговоркой, не оставлявшей никакого сомнения, что он не хочет, чтобы они были. Закончив, тучный человек снова вынул часы, и они исполнили тот же гимн. Достав платок, он вытер со лба капельки пота. Прокопенко встал и коротко объявил:
- А теперь, господа, прошу в столовую. И не будем задерживаться, дорогие единомышленники. Помните о мерах предосторожности, потому что береженого бог бережет.
Стол ломился от закусок и донских сухих вин, но коньяку на нем стояла всего одна бутылка, и Артемий Иннокентьевич, предпочитавший исключительно крепкие напитки, мрачно вздохнул, понимая, что каждому достанется лишь по рюмке. Зато вино можно было наливать в большие фужеры. Прокопенко на правах хозяина дома произнес:
- За наше высокое дело, господа! За императорский трон и святую Русь!..
Артемий Иннокентьевич с грустью подумал о том, что в былые времена в офицерском собрании их полка хрусталь звенел веселее и чаще. Когда бокалы и рюмки были поставлены на стол и торопливо съедены бутерброды с икрой, колбасой и балыком, хозяин лаконично объявил:
- В целях безопасности расходимся по очереди. Темников и Думбеков покинут нас первыми, затем полковник Ста-шинский проводит нашего парижского гостя, а есаула я с вашего разрешения задержу. - И, улыбнувшись, закончил: -Будете уходить под мое музыкальное сопровождение
Весь город знал Прокопенко, да и как было его не знать если в первые годы Советской власти три ордена боевого Красного Знамени воспринимались примерно так же, как в наше время Золотые Звезды Героя Советского Союза. Человек, их носивший, становился живой легендой. Бравируя своей славой, Прокопенко ходил по Новочеркасску открыто, с гордо поднятой головой, иной раз припадая на левую простреленную ногу, но больше не от неудобства передвигаться, а от рисовки. В летнее время он всегда выглядел одинаково: непокрытая голова с буйно разметавшейся шевелюрой, синяя коверкотовая гимнастерка, галифе, заправленные в комсоставские сапоги из отменного хрома. Все это с шиком сидело на его плотной, ладно скроенной фигуре.
Его нередко приглашали в президиумы торжественных заседаний, на трибуну атаманского дворца в дни демонстраций. Ребятишки хвостом бегали за ним, а самые смелые иной раз даже преграждали дорогу, засыпая вопросами:
- Дядя Прокопенко, а вы белых больше саблей порубили или из нагана постреляли?
- Ей-богу, не считал, - отвечал тот неторопливо.- Всяко случалось. Все от того зависело, как бой складывался. Если враг тебя настигал, а ты на коне, лучше шашкой было отмахнуться, а если далеко, то шашкой его, разумеется, не возьмешь, пулей приходилось доставать.
- А что такое шашкой отмахнуться? - спрашивал какой-нибудь конопатый карапуз.
- А это значит, - отвечал Прокопенко, - что раз махнул - и голова твоего преследователя на земле.
- А Буденного вы видели?
- Вот как тебя.
- Уй ты!. Неужто?
Многие были поражены, узнав о том, что Николай Модестович прекрасный пианист. Из распахнутых окон особняка, в котором его поселили по ордеру горсовета, часто доносились звуки рояля, и в глубине зала виднелась склонившаяся над клавиатурой курчавая голова музыкапта. Остановившиеся из любопытства горожане узнавали то "Баркароллу" Чайковского, то полный глубокого горя "Полонез" Огинского, то бравурный "Турецкий марш" Моцарта, а иногда и музыку пламенных лет гражданской войны: ведь герой Первой Конармии, штурмовавшей Воронеж, Миллерово и Ростов, всегда, как полагали горожане, носил эту музыку в своей душе. '
Сейчас Прокопенко провожал гостей "Марсельезой". Он никогда так и не узнал, что человек из Парижа, отойдя на порядочное расстояние от парадного, издевательски сказал своему спутнику Зигмунду Сташинскому, успевшему пустить прочные корни в Новочеркасске:
- Кокетничает...
Прокопенко перестал играть и, метнув на есаула Моргунова усталый взгляд, спросил:
- Еще выпьете, Артемий Иннокентьевич?
- Предпочел бы, - сдержанно ответил задержавшийся гость.
Они вернулись в соседнюю комнату и сели за стол, на котором осталось еще предостаточно бутылок с винами и закусок. Покосившись на недопитую бутылку коньяка, есаул не очень уверенно спросил:
- Вам из этой налить, Николай Модестович?
- Нет, - вяло ответил хозяин.
- Если можно, я вылью себе весь. Глазомер меня никогда не подводит. Остался ровно стакан.
- А опьянеть не боитесь? - суховато остановил его Прокопенко. - Не забывайте, что в нашем рискованном деле опьянение весьма опасно. Пьяный подпольщик - легкая добыча для чекистов.
- Николай Модестович, вы меня обижаете, - взмолился есаул, - неужели вы меня видели когда-нибудь потерявшим самоконтроль?
- В Новочеркасске нет, по раньше, до гражданской войны, в Петрограде...
- Эка хватили! Так ведь раньше я же не был на нелегальном положении, как теперь.
- Ну ладно, ладно, пейте за мое здоровье, - примирительно остановил его Прокопенко и грустно улыбпулся: - Да, действительно, были времена... Все бы отдал, чтобы к ним вернуться.
Когда же Моргунов, закусив коньяк тремя бутербродами, вытер масленые губы платком далеко не первой свежести, Прокопенко встал и, дав понять, что на этом все закончено, поманил гостя в гостиную, усадил в кресло, а сам сел напротив на крутящийся стульчик у рояля сначала спиной к гостю, а потом быстро повернулся к нему лицом. Глаза Прокопенко с большими белками не мигая уставились на есаула.
- Дело есть, Артемий Иннокентьевич. Огромной важности и безотлагательности дело. Слушайте меня внимательно, дружище.
- Я готов, - без особого подъема произнес Моргунов, предполагая, что речь пойдет о чем-то очень серьезном и крайне для него неприятном. Хозяин дома потрогал гладко выбритый подбородок и продолжал:
- Мы с тобой верно служили государю императору в одном полку. Так, кажется?
- Было, Николай, было. И под знаменами этого щеголя, барона Врангеля, в Крыму вместе сражались, это тоже в памяти навеки осталось.
Прокопенко для чего-то притронулся к трем боевым орденам, но тотчас же отдернул ладонь, будто от раскаленных углей.
- Что это вы? - недоуменпо спросил Артемий Иннокентьевич.
- Случай один вспомнил, - глухо проговорил хозяин дома. - Его бы забыть полагалось, и тогда бы существовать можно было спокойно, да память не велит. До галлюцинаций иногда доводит при мысли об этом.
- Я от галлюцинаций не лечу, - без вызова в голосе возразил Моргунов, - медицинский факультет не кончал. Это тебе к Сеченову надо было бы обратиться. Да и то в свое время, если учесть, что он давно опочил.
Темные зрачки в глазах Прокопенко замерли.
- Не остри, Артем. Речь веду об очень серьезном. Надеюсь, ты не забыл, что, когда мы стояли в районе Джанкоя, а ты в контрразведке фронта у самого Врангеля действовал, я всего-навсего полковую разведку возглавлял. Выследили мы не кого-нибудь, а самого комиссара полка. К медсестре он ходил на свидания. Реже один, чаще в сопровождении ординарца. Смелый был парень, ничего не скажешь. Санитарная палатка с красным крестом далеко от расположения штаба стояла. Мы ворвались в нее за час до рассвета. Так случилось, что женщина его вскочила раньше, и мне пришлось первым же выстрелом ее уложить. Один из моих разведчиков на мгновение фонариком палатку осветил, и я запомнил, как она падала. Без крика, в одной белой нижней рубашке, раздувшейся колоколом, глаза большие, и столько в них тоски, как у птицы подстреленной. Хотел я того комиссара колодкой маузера оглушить, чтобы живым в плен взять, да сильным он и яростным оказался. Подмял под себя, руку с маузером к земле жмет, вывернуть хочет. С минуту мы боролись. Мой парепь фонарик в этот момент зажег и мне предоставилась возможность лицо комиссара рассмотреть. Красивый был комиссар, рослый, волосы густые назад откинуты, губы жестко очерчены, а в глазах такая ярость, будто одним взглядом сжечь хотел. Вырвал он маузер у меня. Но что дальше с ним произошло, пе знаю. Или руки у пего дрожали от горя, или я удачно отпрыгнул в сторону и по влажному предрассветному песку в темноту уполз, но только выстрела не последовало. Клянусь провидением, повезло мне, как может повезти только в рубашке родившемуся. А возможно, песок в маузер набился и осечка случилась. Словом, пуля пе просвистела, и я, как видишь, перед тобой. Теперь все это как кошмарный сон видится. Да и то иногда.
Есаул нервно дернул плечом и развел руками.
- Не понимаю, Николай Модестович, с какой целью вы мне это рассказываете?
- Сейчас поймешь, Артемий Иннокентьевич. Это исповедь. А рассказываю я потому, дорогой ты мой, что человека, о встрече с которым исповедуюсь, не далее как в прошлую субботу встретил па Московской улице нашего Новочеркасска в магазине.
- Его? - побелев, воскликнул есаул и с надеждой спросил: - Но, Николай Модестович, быть может, вы обознались? Усталость, расстроенные нервы и все такое прочее?
Прокопенко отрицательно покачал головой.
- Исключается. Этого человека я бы и на том свете узнал. Ведь целую минуту глядели друг другу в глаза... Он был в магазине в форме кавалериста, в синих петлицах его шпалы. Очевидно, сейчас занимает в Персиановке должность как минимум начальника штаба полка. Вот так-то, Тема.
- Господи, смилуйся,- простонал опешивший есаул и клешневатыми руками стал комкать рукав пиджака. - Ну почему не в Киеве, не в Смоленске, на худой конец, не в Баку? Зачем он нам здесь, в Новочеркасске? Ведь так хорошо обосновались...
- Трагическая случайность, не больше, - холодно но; яснил Прокопенко. - Однако разве от этого легче?
В глазах у Артемия Иннокентьевича заметался страх, и даже щеки, минуту назад багровые от выпитого коньяка, покрылись мертвенной бледностью.
- Николай Модестович, так ведь это же полнейшая перспектива провала. Рано или поздно он опознает вас, и вся наша подпольная группа будет раскрыта! О! Вы не хуже меня осведомлены, что в ГПУ работают люди с железными нервами. Круг настолько сузился, что я не вижу из него выхода.
- Спокойнее, мой друг, - перебил его Прокопенко, - не надо паниковать раньше времени. Выход есть... суровый, но единственный. Этого человека при первой возможности надо...
Артемий Иннокентьевич заглянул в глаза Прокопенко и замер от ужаса. В этих остановившихся глазах не было ничего, кроме беспощадной решимости. И, поняв, какие слова тем не были досказаны, есаул весь побелел.
- Нет! - замахал он руками. - У меня это не получится. Я не в силах выстрелить в безоружного человека. Это не в открытом бою. Сдадут нервы... Я не смогу, Николай Модестович, это мое первое и последнее слово...
- Сможешь, - глухим твердым голосом оборвал его Прокопенко. - Сможешь, Тема. Ты не институтка, а заслуженный офицер доблестной русской армии. Выбор пал на тебя, и это решение уже сообщено в парижский центр.
- Я отказываюсь! Я уеду куда глаза глядят! - истерически закричал бывший есаул.
- Дело ваше, - переходя на сухое "вы", предупредил Прокопенко, и на щеках его заходили желваки. - Однако, я надеюсь, вы не забыли статью седьмую устава нашей организации? Могу процитировать и освежить тем самым вашу память. "Если же я словом или делом предам интересы моих товарищей, то заслужу вечное презрение и смертный приговор. И пусть всякая память обо мне, как и прах мой, будет навеки рассеяна".
Моргунов молчал, закрыв ладонями лицо.
- Одну минуточку, Артемий Иннокентьевич, - мягче сказал Прокопенко, - я сейчас.
Он отлучился из комнаты и вернулся, неся в руке полный фужер коньяка, накрытый ломтем белого хлеба, густо намазанного осетровой икрой.
- Выпеи, Тема, - сказал миролюбиво Прокопенко, - и возьми себя в руки. Хочу по-дружески напомнить, что в данной ситуации твой отказ равносилен предательству. Чего же ты хочешь? Чтобы наша новочеркасская подпольная группа перестала существовать? Ты же не наивная тургеневская барышня и прекрасно понимаешь, что в этом случае полное досье на тебя будет доставлено в местное отделение ГПУ, и последствия, надеюсь, тебе ясны.
Артемий Иннокентьевич пил коньяк, и зубы его стучали о дорогой хрусталь. Он молча кивнул, молча прожевал бутерброд.
- Работайте и дальше под дурачка-гармониста дядю Тему, - благословил его Прокопенко. - Это хорошо, что вы уже стали кумиром местной толкучки. Изучайте настроения людей, приближайте обиженных Советской властью. И еще запомните, что наш сегодняшний разговор отнюдь не означает, что я немедленно вложу в ваши руки пистолет с обоймой и заставлю действовать. Надо еще многое выяснить, прежде чем принять решение. А вдруг все же произошла ошибка и этот красный командир ничего общего не имеет с тем комиссаром, бабу которого я уложил в Крыму? Извините меня за некоторую нервозность нашего разговора.
- Ничего, - протянул есаул, с трудом выдавив из себя улыбку. - Служба, как говорится, есть служба.
- А дружба остается дружбой, - подхватил Николай Модестович и невесело усмехнулся при этом.
Павел Сергеевич даже не предполагал, как закрутит, завертит его новая работа. В холодном и еще не совсем обжитом здании атаманского дворца с высокими сводчатыми потолками коридоров и кабинетов, с ярко начищенными паркетными полами, в которых, казалось, отражаются лица людей, помещались почти все самые главные городские учреждения - и городской комитет партии, и горсовет, и финотдел, и даже горсобес.
В большой нарядно-холодный кабинет девятнадцатилетняя секретарша Валечка с напудренным личиком, подбритыми бровками и подкрашенными неяркой помадой губками ежедневно вносила по утрам две-три кипы толстых и тонких папок с делами большой и малой важности, чтобы новый исполняющий обязанности председателя горсовета, ознакомившись с их содержанием, принял решение и со своей резолюцией направил тому, кому следовало ими заняться.
Чего только не было в этих папках, начиная с просьб о вспомоществовании, жалоб на горторг и гортоп и кончая делами самой большой важности, от которых порою зависел завтрашний день города: снабжение населения продовольствием и промтоварами, утверждение смет на строительство новых промышленных предприятий или восстановление старых, пострадавших при освобождении Новочеркасска от белых.
Павел Сергеевич далеко еще не во всем разбирался, а ученые термины, такие, как сальдо, депонент, безлюдный фонд, до того повергали его в уныние, что, слушая в конце дня своих многочисленных консультантов, которых благодаря белокурой Валечке он вызывал в кабинет в неограниченном количестве, хватался за виски от нестерпимой головной боли и покидал службу с твердым убеждением, что никогда полноценного работника на этой должности из него не получится. Свое подавленное состояние он нередко срывал на ни в чем не повинной секретарше.
- Ты это зачем, Валентина? - строго спрашивал он девушку, передавая ей последние перед завершением рабочего дня распоряжения. - А ведь небось комсомолка со стажем.
- Что "это"? - не сводя с него насмешливых глаз, уточняла секретарша.
Якушев темнел лицом и, не находя подходящих выражений, бормотал:
- Ну, краска губная, пудры и кремы всякие. Нам, Валентина, город из разрухи вытаскивать надо, с остатками контры бороться самым беспощадным образом, а ты в мещанство удариться норовишь. Небось и на фокстроты, и на танго всякие ходишь с жоржиками всевозможными, что при галстуках и бабочках разных официантских. Так и в мелкобуржуазное болото скатиться недолго.
Якушев ворчал, низко опуская голову, чтобы не видеть глаз своей подчиненной, но та и не думала сдаваться в этом словесном поединке.
- Во-первых, не с жоржиками, а со студентом Политехнического Васей Желудевым. А он тоже комсомолец. И насчет кремов и пудры я вам тоже возразить желаю, Павел Сергеевич. Поинтересуйтесь у врачей, и они вам в один голос скажут, что крем и пудра любую девчонку украшают. Да и губная помада тоже, если ее тонким слоем класть. Но одно еще хочу прибавить. Когда мы по решению горкома на банду Маслака в бой ходили, я не помады и кремы с собою брала, а наган с запасными патронами и, кажется, в мелкобуржуазное болото пе скатывалась. Да и пулям бандитским не особенно кланялась.
Якушев переставал ворчать и уже добрее посматривал на секретаршу.
- Это ты верно про Маслака говоришь, Валентина, - соглашался он. - Что было, то было. Достойно себя показала, как любой боец РККА. Не будь ты девкой, в армию бы отправил тебя служить. Да и Вася твой отличился. Все знаю. Так что извини, это я лишнее на тебя сегодня набурчал. Иди домой, Валентина, гуляй, потому как рабочий день у нас к концу подошел. Но о некоторых моих советах подумай. Я же тебе одного добра хочу и ругаю тебя любя, дочка.
- Понимаю, - весело отвечала секретарша и начинала ворошить в модной сумочке из крокодиловой кожи разную всячину: зеркальце, пудреницу, флакончик с духами, расческу.
- Подожди, - хмуря брови, останавливал ее Якушев. - Не забудь завтра осведомиться в прокуратуре, что они сделали по нашему сигналу о расхитителях муки в девятой пекарне. Наказали виновных или все еще собираются. С утра меня проинформируй, а то могу упустить из виду. Уж больно у меня сейчас дел много.
Валентина, одернув коротенькую плиссированную юбчонку, уходила, а Павел Сергеевич, провожая ее ладную фигуру добрыми, улыбчивыми глазами, думал: "Ишь ты какая! Поглядишь, фифочка, да и только. А как она двух маслаковских бандитов из нагана уложила, а! Дочку бы тебе такую, а не ворчать на нее по-стариковски".
Наступал час, когда в длинном прохладном коридоре бывшего атаманского дворца затихали шаги и голоса служащих, покидавших свои рабочие места, и только дежурные милиционеры оставались на постах. Якушев выходил на балкон, нависавший над покрытой булыжником площадью, и, опершись о каменные перила, долго и задумчиво смотрел вперед. Расстегнув верхний крючок гимнастерки с еще не споротыми кавалерийскими петлицами, с наслаждением вдыхал вечерний воздух и думал с горечью: "Слаб характером стал. Ну какого дьявола было тебе соглашаться на этот пост? Разве с твоей головой и с твоими знаниями должен сидеть человек в этом кресле и управлять таким большим и сложным городом, как Новочеркасск? А впрочем... Ведь говорят же, что сидел в этом кресле в восемнадцатом году белый генерал Каледин, известный по всей России. Ему сызмальства бонна какая-нибудь сопливый нос шелковым платочком утирала, высшее военное образование получил, на французском изъяснялся и не трус был, а вот не мог в этом кресле удержаться, когда зашумел ветер гражданской войны. Лишь за несколько минут до самоубийства нашу правду оценил во всей ее полноте. Как он там написал в своей предсмертной записке генералу Алексееву?" У Павла Сергеевича была отменная память, и строки мгновенно вспомнились, красными ниточками побежали в сознании: "Казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы". И дальше: "Вас прошу щадить их и отказаться от мысли разбить большевиков во всей России". Это он понимал, но донской край наперекор всему видел только монархическим. Мало ему в детстве ума вложили. Знаний много, а ума мало, иначе он бы не сочинил такие строчки. Как же там дальше? Павел Сергеевич возвратился в кабинет, достал копию предсмертной записки Каледина, которую держал в личной папке, и перечел: "Казачеству необходимы вольность и спокойствие, избавьте тихий Дон от змей, но дальше не ведите на бойню моих милых казаков. Я ухожу в вечность и прощаю все обиды, нанесенные мне вами, в момент вашего появления в нашем кругу". Подписал эту записку в два часа дня в один из февральских дней восемнадцатого боевого и бабахнул в себя. С тем и растаял для истории человечества.
Положив обратно в папку эту копию, Якушев растер ладонями затяжелевшие виски и усмехнулся: "Да, сидел Каледин в этом кресле. Сидел, да не усидел. А вот я, Пашка Якушев, бывший боец кавалерийского полка, усижу. Поднаберусь грамотешки и усижу. И городу пользу постараюсь принести. Конечно, в кавалерийском полку все было просто и понятно. Хоть вольтижировка, хоть рубка лозы, хоть учения полковые. Но я и здесь не оплошаю, на то я и якушевский внук! Ну вот и расхвастался!" - весело прервал он течение своих мыслей и уже в бодром настроении снова вышел на балкон.
Якушев задумчиво глядел вдаль, куда убегала широкая Московская улица, высветленная первыми электрическими лампочками. В наступивших сумерках теряла свои очертания стоявшая в скверике перед атаманским дворцом на высоком постаменте фигура донского атамана Платова.
Когда-то ее изваяли при участии великого скульптора Клодта. Платов стоял, держа в левой, высоко поднятой руке булаву, а в правой, отведенной назад, кривую саблю. Так и казалось, что скликал он донских казаков на какое-то новое славное дело, какое было выше всех его прошлых баталий. На цоколе благодарными потомками была выбита надпись: "Графу. Атаману Матвею Ивановичу Платову. Донцы".
Якушев забеспокоился, подумав о том, что именно она, эта надпись, и решила судьбу памятника. В этот вечерний час, когда окончательно опустел и затих атаманский дворец, только в одном окне, в кабинете секретаря горкома ВКП(б), горел на втором этаже яркий свет. Павел Сергеевич твердо решил: "К черту! Рубать так рубать, даже если самого себя. На то ты и кавалерист, братишка! Вот и про памятник заодно".
Он ушел с балкона, с грохотом затворив за собою дверь. Шаги его комсоставских сапог с щегольскими позванивающими шпорами гулко прозвучали по железным плитам лестницы. Пройдя пустую приемную, он уверенным движением распахнул белую дверь с яркими золочеными вензелями и переступил порог.
За широким столом, заваленным папками, бумагами и даже чертежами, сидел человек с облысевшей головой и посеревшим от усталости лицом в черном костюме, лацканы которого, а тем более локти уже изрядно лоснились от времени. Он писал длинную резолюцию на каком-то отпечатанном на "ундервуде" документе. Исподлобья покосился на Якушева и, продолжая писать, отрывисто спросил:
- Чаю хочешь? Есть и галеты.
Павел Сергеевич отрицательно покачал головой.
- Ну, как знаешь. Зачем пришел?
- Душевное слово первому секретарю горкома партии сказать. Дозволишь, Тимофей Поликарпович?
- Говори, - согласился хозяин кабинета, - но сначала ответь и мне на один вопрос: когда ты форсить перестанешь?
- Не понимаю, - пожал плечами Якушев.
- Когда ты форму командира кавполка носить прекратишь? Ты теперь не лихой рубака, а исполняющий обязанности председателя горсовета. За границей такое лицо мэром именуется. В твоих руках вся Советская власть нашего города сосредоточена. К тебе на прием ежедневно десятки людей со своими нуждами и болями идут. А ты их в армейской форме принимаешь, которая в мирных условиях их даже отпугивает в какой-то мере. - Он побарабанил по столу пальцами и повторил свой вопрос: - Так когда же сменишь гимнастерку и галифе на партикулярное платье?
Якушев пожал плечами и усмехнулся:
- Очевидно, никогда, Тимофей Поликарпович.
В руках первого секретаря замерло пресс-папье, которым он собирался промокнуть дописанную резолюцию.
- Как тебя понимать?
- А так, дорогой друг и начальник, что довлеют надо мной сомнения, и я задаю вопрос: а надо ли мне быть, как ты сказал, мэром города? Не проиграет ли от этого город?
У первого секретаря поползли вверх мохнатые брови:
- Гм... быть или не быть, совсем как Гамлет рассуждаешь.
- А кто такой Гамлет? - насторожился Якушев.
- Это принц датский у Шекспира в пьесе, - добродушно улыбнулся Тимофей Поликарпович. - Пьеса скоро в нашем городском театре пойдет. Сходи.
- Чтобы ликвидировать пробелы в образовании?
- Это никогда не поздно. - Секретарь встал и, заложив руки за спину, неспешно прошелся вдоль стены большого кабинета. Круто, по-военному повернувшись, остановился напротив своего неожиданного посетителя. В серых глазах появилась злинка. - Вот как! Значит, таланта в себе не ощутил?
- Выходит, так, -с вызовом согласился Якушев.
- Надеюсь, ты помнишь, чьи это слова о том, что каждая кухарка может научиться управлять государством?
- Мы их слишком часто повторяем. И потом - я не кухарка, а лицо мужского пола.
- Ты! - вскричал, не слушая его, секретарь. - Ты в сотни раз выше любой кухарки. Ты красный командир, Павел, дважды орденоносный к тому же. У тебя нет образования, но зато есть другое: образование революционера-подпольщика, огромная школа, в которой побеги, ссылки, организация демонстраций и стачек. Ты был бесстрашным бойцом революции, Павел, отважным кавалеристом. А теперь, когда мы победили, когда перед нами открылись такие необъятные дали будущего, ты вдруг становишься пораженцем!..
Якушев грустно рассмеялся:
- Да не пораженец я, дорогой Тимофей. Не пораженец. Вот тебе слово донского казака. Однако далеко не все у меня получается. Вчитываюсь в документы и многого в них не понимаю. Люди приходят ко мне за советом, а я порою не знаю, что им сказать.
- Верю, - прервал его секретарь. - Однако позволь и мне задать тебе один вопрос.
- Задавай.
- Ты кавалерию хорошо зпал, когда драться за молодую Советскую Республику в ее рядах пошел?
- Да какой там к черту! Совсем не знал. Она как темный лес для меня была. Но партия сказала: "иди", и я пошел.
- Вот и правильно! - заключил Тимофей Поликарпович. - Вот и договорились, дружок мой милый. А сейчас партия дает тебе такой же боевой приказ, бывший командир кавалерийского полка Якушев! Иди и осваивай советскую работу, утверждай нашу власть в своем родном городе. Так неужели же ты изменишь букве ее устава, самой сути нашей партийной дисциплины? Иди от меня прочь, Павел, и набирайся сил для завтрашнего рабочего дня, не мешай работать и считай, что дискуссия меж нами на этом закончена.
- А помогать мне побольше станешь, Тимофей? Так, чтобы мне не завалиться?
- Стану, Павел. Но и ты никогда не забывай поговорку о том, что не боги горшки обжигают. А теперь иди. Мне еще в Ростов, в крайком партии позвонить надо. Чего медлишь? Уходи, говорю. Или у тебя ко мне конкретика какаянибудь есть?
- Есть и конкретика, - тихо подтвердил Якушев.
- Тогда выкладывай. - Тимофей Поликарпович усадил его на потертый кожаный диван, сам сел напротив и приготовился слушать.
- Как бы тебе сказать... - не очень уверенно начал Павел. - Получил я тут на днях циркуляр из вышестоящего отдела. Предписывается нам снять с постамента памятник донскому атаману Матвею Ивановичу Платову.
- Знаю, - прервал его первый секретарь горкома. - И о циркуляре знаю, и о том, как дорог лично тебе этот атаман. Ведь твой дед вместе с этим генерал-лейтенантом кавалерии в подмосковных лесах от Бонапарта Москву отстаивал.
Якушев скосил на собеседника насмешливые глаза.
- Не только под Москвой. Он и по Парижу, по всем Елисейским полям с высоко поднятой саблей проскакал вместе с Платовым, когда наши донские казаки туда вошли, разбив под орех хваленое наполеоновское войско. Дед мой даже был в числе тех казаков, в память о которых в Париже на холме Монмартр первое "бистро" открыто было.
- Это какое еще "бистро"? - насторожился Тимофей Поликарпович и полез в карман за пачкой ростовских папирос "Эпоха". Продавая в ту пору по всему Новочеркасску такие пачки, мальчишки лихо выкрикивали: "Есть "Эпоха", закурить неплохо!" Твердые волосатые пальцы первого секретаря решительно размяли одну из них. Чиркнула спичка, и синеватый дымок взвился в воздух, но, поднявшись над их головами, так и не достиг высокого лепного потолка. Отменно строили в старое время новочеркасские каменщики!
- Так что это за "бистро"? - с некоторым удивлением после небольшой паузы повторил свой вопрос секретарь. Крутое плечо Павла насмешливо приподнялось.
- Эх, Тимофей, Тимофей! Работы по диалектическому материализму ты назубок знаешь, какого-то принца Гамлета знаешь, а вот что такое "бистро" - не знаешь. "Бистро" означает быстро. Быстро давай стакан вина - так наши донские казаки обращались к парижанам и парижанкам. С тех пор и называются во французской столице этим словом маленькие кабачки, где вино и пиво хлещут. Понимаешь?
Секретарь горкома заинтересованно покачал головой.
- Чего же не понять! Только при чем тут твой дед?
- А при том, что на рассвете двенадцатого февраля восемьсот четырнадцатого года рота моего деда захватила этот самый холм Монмартр. Казаки увидели кабачок и стали колотить в дверь прикладами. "Открывай, хозяин, а то нас мокрым снегом как есть занесет. Налей горячительного поскорее, иначе закоченеем, как псы бездомные". Хозяин сначала испугался, а потом на пальцах объяснил, что готов целую бочку выкатить, лишь бы его не трогали. Казаки обрадовались и дружно загалдели: "Давай твою бочку, быстро, быстро!" Кончилось все тем, что хозяин, видя добродушие наших донцов, сам сел рядом с ними и тоже изрядно нахлестался. А так как казаки все время приговаривали: "Наливай быстро, быстро", то в Париже со следующего дня все маленькие кабаки стали называться "бистро". А ты этого не знаешь, первый секретарь, донской казак по происхождению!
Тимофей Поликарпович засмеялся:
- Понимаю. Дорог тебе Платов. Но циркуляр, как ты тут выразился, действительно получен. Предложено памятник снять. Ты-то сам как на этот счет думаешь? - спросил oн, пытливо всматриваясь в посеревшее от усталости лицо Якушева.
Павел Сергеевич ответил не сразу. Долго глядел в высокий прямоугольник окна, в котором уже проступили первые звезды.
- Его изваял Клодт, - сказал он негромко. - Тот, что в Питере на Аничковом мосту коней и четырех мужиков богатырского телосложения, которые держат их под уздцы, изготовил. Знаменитый французский скульптор.
- Все-таки русский, - насмешливо поправил Тимофей Поликарпович.
- Пускай так, - махнув рукой, согласился Якушев, - не в том дело.
- Сформулируй, в чем? - уже более требовательным тоном произнес секретарь.
Павел положил па колени синих кавалерийских галифе руки с набрякшими венами:
- Обо мне ведь такое представление ходит, Тимофей, мол, рубака, рядовой боец, поднявшийся на гребне гражданской войны до командира эскадрона, а потом и до командира полка. Но это не так. Были и у меня мои собственные университеты, о которых и ты упоминал. И на шахте уголек рубал, и листовки клеил, и полицейские меня по мордасам отхаживали, и ссылку познал, на которой ленинские работы понимать научился. Так что если я и не эрудит какой-то, то тертый калач, во всяком случае. И вот раскинул я умишком своим сермяжным, еще раз на ваяния Клодта поглядел и в определенной мере воспринял циркуляр.
- В какой же? - усмехнулся Тимофей Поликарпович.
- А в той, что не на месте стоит дорогой наш Матвей Иванович, да еще с надписью на постаменте, что он атаман и граф. Слова-то эти не в почете ныне. И посуди сам, Тимофей Поликарпович, место здесь самое людное, две наши главные улицы перекрещиваются. Скоро центр Новочеркасска нашего пошумнее станет. И надо, чтобы на этом постаменте другой человек стоял.
Секретарь горкома встал.
- Которого с нами теперь нет?
- К сожалению, нет.
- Да, Павел Сергеевич. Теперь я вижу, что ты способен государственными категориями мыслить. Лучшего места для Ильича в нашем городе не подберешь. Так что будем считать эту перемену запланированной, председатель горсовета?
Якушев остановил его поднятой рукой:
- Подожди, Тимофей. Скоро важные дела пе делаются. Скоро лишь кошки плодятся. То, что я сказал, это одна сторона дела. Но есть и другая. Как быть с памятником Платову? Надо сразу подумать о перенесении его в другое место.
- Подумаем, - согласился Тимофей Поликарпович. - Скульптуру великого Клодта никто уничтожать не собирается, так же как и память о герое Дона Платове. И ты, горсовет, тоже подумай.
- Подумаю! - обрадованно воскликнул Павел Сергеевич. - Теперь я со спокойной совестью могу оставить тебя наедине с делами и отбыть к брату на поздний ужин.
- Постой, а на чем поедешь?
- Не па чем, а на ком, - засмеялся Якушев. - На Зяблике любимом, конечно.
Первый секретарь сердито пожал плечами:
- Черт побери, одного не могу понять! II для чего только я тебе персональный автомобиль выделил? Лучше бы городскому прокурору или военкому отдал. Он у тебя пе столько в разъездах, сколько в гараже стоит.
Якушев развел руками:
- Что поделаешь. Автомобиль - это неодушевленный предмет, а конь - это твой двойник. Конь и человек с полуслова друг друга понимают. Постарел мой Зяблик, никуда не деться от этой горькой истины. Но разве я забуду когда-нибудь, как он меня, раненного, под врангелевскими пулями с поля боя умчал? Это не только друг, но и спаситель к тому же.
Тимофей Поликарпович поджал губы:
- Лирику брось мне разводить! Уже в десятый раз эту историю слышу. Пора бы тебе усвоить, что любое повторение истины - это уже назидание. Да и вообще черт знает что. Никогда во дворе горкома партии коновязи не было. Даже прежние обитатели атаманского дворца, белые генералы, что Краснов, что Каледин, что этот демагог Африкан Багаевский, верховых лошадей здесь не держали, а ты...
- Еще бы, дорогой Тимофей Поликарпович, - с деланным смирением заявил Якушев, - белым генералам коней ординарцы под уздцы подводили, а я простой советский человек и к такому баловству расположения не имею.
- Слушай-ка, простой советский человек, - решительно перебил его секретарь горкома, - закругляйся, пока не поздно, у меня еще работы навалом. Серьезного у тебя ко мне больше ничего нет?
- Серьезного? - переспросил Павел и вдруг задумался. Растерянность, испуг и страдание промелькнули разом в его потемневших глазах. Пауза затягивалась, и Тимофей Поликарпович, пристально взглянув на него, сухо промолвил:
- Чего молчишь? Если есть, так говори.
- Нет, - тихо ответил Павел. - Ничего у меня к тебе больше на сегодня нет, дорогой секретарь. - И с этими словами покинул кабинет.
День, в который Надежда Яковлевна пекла торт "Наполеон", не без основания считался праздником в их семье. Еще самым ранним утром, когда, обессиленный ночными приступами болезни, Александр Сергеевич крепко спал, по самое горло укутанный зеленым ватным одеялом, на кухне под руководством хозяйки дома свершалось великое таинство приготовления торта, которое нельзя было сравнить но торжественности ни с каким иным обрядом.
Венька и Гриша ни на шаг не отходили от матери и пулей бросались выполнять каждое ее поручение. С далекой Московской улицы они приносили знаменитые ванильные порошки и первосортную муку-крупчатку, из которой мать пекла такие коржи, что они хрустели на зубах, когда она выдавала детям "по одному на брата". К этому времени был готов и удушливо пахнущий сладкий крем, без которого не мог родиться ни один "Наполеон". Ребята макали в него далеко не идеально чистые пальцы, совали их в рот и зажмуривались от волшебного вкуса.
- Вот это да! - восклицал Венька, обращаясь к старшему брату. - А как ты считаешь, Ися, такого крема целый фунт съесть можно?
- Я бы аж два съел, если бы мама дала, - отвечал старший, которого в семье, когда не было гостей и посторонних, часто называли Исей. Прозвище такое за ним укрепилось давно, еще когда ему поручалось укачивать Веньку, а тот отчаянно сопротивлялся и орал:
- Не трогай, Ися, не подходи ко мне!
Так и пошло в семье: то Ися, то Гриша, то Гришатка.
Пока братья спорили, кто сколько ванильного крема может употребить за один раз, мать, засучив по локоть покрытые нежными мелкими веснушками руки, старательно раскатывала скалкой тесто для новых коржей. В эти минуты она становилась нервной, а иногда и злой, и даже подзатыльником могла наградить любого из братьев за попытку оторвать от теста хотя бы кусочек и отправить его тайком в рот. Ребята это знали и на всякий случай до поры до времени держались от нее поодаль. Знали они и то, что за такое долготерпение будут щедро награждены. Эта награда приходила, когда мать вынимала из печки последнюю партию коржей и на весь дом весело провозглашала:
- Вот и пришла, ребятки, та минута, когда говорят: кончил дело - гуляй смело. - И с наигранным удивлением оборачивалась на ожидающих: - О! Да вас уже, оказывается, не двое, а трое.
Венька и Гриша, переглянувшись, Дружно хлопали в ладоши, повторяя за ней: "Трое, трое". И это не было ошибкой, потому что рядом с ними уже действительно сидел в ожидании милостивой подачки белый в черных пятнах кот Фомка. Из открытого его рта торчал розовый язык, а глаза источали такую радость, словно хозяйка дала ему по меньшей мере не одну ложку крема. После такого предисловия Надежда Яковлевна выдавала по одному коржу детям, а третий протягивала терпеливому Фомке.
Затем она неторопливо намазывала на каждый испеченный корж слой крема. Это было похоже на то, как мастер живописи наносит самые последние штрихи на картину, близкую к завершению. На лице у нее в этот миг было столько искренней радости, света и вдохновения, что оно попросту лучилось. А когда изящным движением она срезала излишек коржей, чтобы придать торту идеально круглую форму, ребята и вовсе сидели, затаив дыхание.
Едва ли не окаменев, они дожидались той минуты, когда мать начнет делить меж ними обломки пахнущих кремом коржей. Они их считали самой вкусной частью домашнего торта. Усмехаясь тому, как быстро исчезает лакомство в измазанных ртах Веньки и Григория, она выносила торт на холод, и через положенное время он был готов для подачи на стол.
В этот вечер "Наполеон" получился на славу. К ужину Надежда Яковлевна приготовила великолепный маринад и сковородку жареного картофеля с кусочками телятины. Все это уже стояло на столе, когда раздался звонок. Александр Сергеевич, проверявший студенческие работы, осипшим от кашля голосом закричал:
- Наденька, отопри, пожалуйста.
Ребята первыми бросились выполпять просьбу отца, столкнулись друг с другом в коридоре, хохоча вскочили и снова бросились к окованной железом двери парадного. Через минуту отец услышал их восторженные голоса:
- Дядя Паша, вот как здорово, что ты пришел! А у нас сегодня мама сюрприз всем приготовила! А мы ворота откроем и твоего Зяблика к сараю приведем!
Александр Сергеевич, несмотря на недавний приступ, после которого отчаянно курил астматол, тоже заспешил в коридор, но, перешагнув порог, вновь закашлялся и схватился за грудь.
- Ну вот еще, - осуждающе произнес Павел. - Зачем ты, Саша, мы бы с хлопцами и сами обошлись.
- Да как же! - воскликнул Александр Сергеевич, продолжая бороться с кашлем. - Надо же поскорее на городничего нашего новочеркасского поглядеть.
- Мне сегодня повезло, - загрохотал басовито Павел, тиская в объятиях вялое тело брата, источенное болезнью, - второй раз такой комплимент слышу.
- Кто же меня опередил? - весело спросил Александр Сергеевич.
- Да Тимофей Поликарпович, первый секретарь горкома партии. Мэром меня назвал.
- Мэром? - переспросил младший брат. - Э нет, к черту! Мы русские люди, и слово "мэр" нам не пристало. Ты городничий, Павел. По всем статьям городничий. Остается только Хлестакова для тебя поискать.
Прибежал запыхавшийся Гришатка и весело доложил:
- Ворота открыты, дядя Паша, можно вашего Зяблика во двор заводить.
Павел потер огромные шершавые ладони и, довольный, рассмеялся, оглядев все, что было на столе:
- Вот это ужин! Надежда, вы вселяете надежду, что и рюмка к нему предвидится.
- Смотри-ка, Наденька, - усмехнулся Александр Сергеевич, - а наш "городничий" делает явные успехи. Это уже не кавалерийская острота!
- А как же, - быстро отозвался Павел, - городничий обязан острить изысканно.
Надежда Яковлевна поставила на стол небольшой графинчик с водкой, который теперь всегда держали в семье на случай приезда старшего брата. Павел попросил заменить маленькую рюмку на граненый стакан и налил себе половину.
- А вот в этом ты остался по-прежнему кавалеристом, - съязвил младший брат. - Разве городничему положено пить из граненого стакана? Представь себе, приедет когда-нибудь в Новочеркасск Чемберлен или Пуанкаре, им в миниатюрные рюмочки спиртное пальют, а ты граненый стакан потребуешь. Конфуз.
- Чемберлена мы в Новочеркасск не пустим, - усмехнулся Павел, - ну а уж если и придется пустить, то я и его из граненого стакана пить научу. На то мы и казаки донские.
Однако выпил на этот раз Павел мало и попросил Надежду Яковлевну убрать графин. В этот вечер брат показался Александру Сергеевичу каким-то необычно возбужденным. Движения и жесты у него были неестественно резкими, голос излишне громким. "От радости, наверное, - добродушно подумал Александр Сергеевич. - Еще бы! Такое повышение не каждому выпадает! Ему теперь совершенно не обязательно законы небесной механики Кеплера изучать. При такой огромной власти обойдется и без них".
Тем временем раскрасневшаяся Надежда Яковлевна внесла на подносе посыпанный орехами торт и торжественно поставила его на стол. Аккуратные бока "Наполеона" были похожи на срезы карьера, обнажающие красоту горных пород. Веня и Гриша первыми радостно закричали "ура". Павел с опозданием примкнул к ним. Расправившись со внушительным куском, он воскликнул:
- Бог ты мой! А ведь мы позавчера на сессии горсовета долго ломали головы над тем, кого можно назначить заведующим горпищеторгом. Так и не нашли подходящей кандидатуры. Надежда Яковлевна, да ведь лучшего завгорпищеторгом у нас и быть не может!
- Саша не отпустит, - засмеялась она, - я из-за него давно уже все свои общественные таланты загубила. Остались, как у немецкой фрау, лишь два: кухен и киндер. Да еще вот этот великовозрастный ребенок, - кивнула она на мужа, уплетавшего торт.
- Надюша, - не без труда проговорил Александр Сергеевич, - у немецкой фрау не два, а три "к", определяющих ее сущность: киндер, кухен и кирхен.
- Кирхен я отбрасываю, - упрямо возразила Надежда Яковлевна. - Терпеть не могу ничего церковного. Религия и поповщина - это умное мракобесие, и не больше. Мне и должности после Бестужевских курсов не дали за то, что откровенно высказывала свои взгляды. Вот и Венечку в церковь после рождения не носили. Так без креста и пошел по жизни. Его за это вся Аксайская улица анчибулой дразнит.
- Они разок даже вздули меня, - добродушно признался мальчик.
- Ладно, не хвастай, - сказала мать, шутливо взъерошив ему волосы. - Взрослые речи ведут, а ты слушай, да не вмешивайся. Вытри лучше щеки, крем пристал. Да не рукой, а салфеткой! И ты, Гриша, об этом позаботься, соколик. Павел Сергеевич, еще кусочек подложить?
- А что же, я не против, - согласился Павел, - давайте расправимся с узурпатором. По каким-то легендам, это он изобрел сие великолепное блюдо на острове Святой Елены.
- Его повар, - поправила Надежда Яковлевна, - а где, не знаю. Наполеону торт страшно понравился, вот и пошел он гулять под его именем по всему белому свету.
- И даже Москву нашу навсегда покорил в отличие от самого Наполеона и его Мюратов да Неев всяких, которые еле-еле успели пятки смазать.
- Саша, Павел! - вскричала вдруг хозяйка. - Да как же я так опростоволосилась, голова садовая! В погребе нас бутылочка красностопа спрятана. К такому торту лучше всякого чая.
- Надюша, - жалким голосом протянул Александр Сергеевич, - ну как же ты запамятовала? Я ведь тоже красностоп обожаю!
И все засмеялись, зная его привязанность к сухим видам Дона, которые он почти не пил, но всегда любил пробовать, чтобы с видом знатока давать им пространные характеристики. Он первым пододвинул к горлышку бутылки небольшой лафитник и, когда красная струя наполнила его наполовину, остановил разливавшего вино брата, долго втягивал широкими ноздрями запах солнца, винограда, полевых трав и продекламировал:
Приготовь же, Дон заветный, Для наездников лихих Сок кипучий, искрометный Виноградников твоих.
- Это чьи же стихи? Вот не знал! - простодушно воскликнул Павел.
- Пушкина, братик, Пушкина, - сказал Александр Сергеевич и обвел всех заискрившимся взглядом. - Павлик, Наденька, Гриша и Веня! Человечество давно пришло к убеждению, что вино - это кумир веселья и бодрости духа, огонь, который, если его, разумеется, умеренно потреблять, зовет нас к самым великим помыслам. Знаю, что при моей тяжкой астме это недопустимо, но все равно опустошу содержимое сего лафитника. А если закашляюсь, то уж извините, уйду от вас в свою келью, - кивнул он лысой головой на дверь кабинета. - Таким образом, как говорят только математики, доказывая любую теорему, давайте выпьем за...
- За счастливую жизнь, - подхватил беззаботно Павел.
- Нет, - тихо, но с ясной настойчивостью возразил вдруг брат. В его сейчас бледно-синих глазах вдруг отразилось упрямство, а полные, придававшие добродушность всему его облику губы сомкнулись, и хотя дальнейшую речь свою он продолжал тихим голосом, была она полна твердости. - Нет, брат, - повторил он несколько громче, - я не собираюсь пить за счастливую жизнь.
- Это почему же, Саша? - скорее удивленно, чем обиженно, поинтересовался Павел.
- А потому, что ее пока нет, - с вызовом, но так же тихо продолжал Александр Сергеевич. - Как мы жили в последние годы? Родина наша умылась кровью. Кто только не терзал нашу землю!.. Солдаты кайзера, французы, американцы, петлюровцы, махновцы, деникинцы... Список до утра можно продолжать. Деревни, вымершие от голода, выстрелы из обрезов, звучащие до сих пор, калеки на улицах, дети без матерей и отцов, оборванные и полуголодные, хулиганье, которое даже здесь, на нашей окраине, мне, ни на что не претендующему педагогу, кричит в лицо "вопючая интеллигенция", а то и плюнуть может, и финкой пырнуть. В их понимании я чуть ли не буржуй уже по одному тому, что купил за тысячу сбереженных рублей этот дом. А пьянство и вечный мат, и слезы жен, ожидающих мужей с получкой, от которой они приносят лишь половину... Прости меня, брат, но я не могу пить за счастливую жизнь. - И он отставил свою рюмку.
- Та-ак, - протянул побледневший Павел и тоже поставил свой бокал с вином, так и не пригубив. - Вот что я скажу тебе, Саша, - резко начал он, но в эту минуту с улицы донесся хриплый голос, неуверенно выводивший блатную песенку:
Оставьте, папенька, ведь мы уже решили с маменькой, Что моим мужем будет с Балтики матрос...
Песня оборвалась, но тот же самый голос, ставший громче оттого, что его обладатель приблизился к дому, угрожающе заорал:
- Спишь, интеллигент проклятый? Закупорился на все замки, профессор кислых щей!.. А вот я тебя сейчас потревожу, и ты у меня выйдешь для серьезного разговора... - И камень с грохотом ударил в ставню. Жалобно тренькнуло стекло.
- Вот видишь, какая красноречивая иллюстрация к нашему спору, - промолвил Александр Сергеевич и усмехнулся. - И это далеко не в первый раз.
Павел внезапно поднялся и стал медленно расправлять складки под широким армейским ремнем на кавалерийской гимнастерке.
- Зато в последний, - сказал он зловеще. Щеки его стали бурыми от гнева.
- Этого алкоголика вся окраина знает, -горько пояснил Александр Сергеевич. -Его кличка Упырь. Постой, ты куда?
- Поговорить с ним минуту, - тихо ответил Павел, отодвигая стул.
- Не надо, - взмолился Александр Сергеевич, - он покуражится и уйдет. А то, не дай бог, камнем в тебя запустит или ножом пырнет.
- Я ему пырну, - проговорил Павел и вышел в коридор. Рывком сбросив железную цепочку и' засов, он появился в проеме открытой двери, негромко позвал:
- Ну, где ты там? Подходи.
Из мрака выросла шатающаяся фигура.
- Это я, что ли, вонючая интеллигенция? - в ярости спросил Павел.
- А кто ж еще, - ответил пьяный. - Не я же! Я - рабочий класс, а ты вонючая интеллигенция.
- Ах ты, падалъ проклятая! - вскипел Павел. - Еще смеешь себя рабочим классом называть, гнида!..
Левой рукой он схватил кричавшего за волосы, пригнул его голову к порогу и тут же ребром правой сильно ударил по шее.
- Пусти... - захныкал пьяный.
- Если хоть раз посмеешь взяться за камень, душу из тебя выпотрошу!
Пьяный рухнул на колени, завыл. Павел, оттащив его от порога, потребовал:
- Извиняйся немедленно, иначе до полусмерти изобью и еще в милицию отправлю.
- Я... я... извините, - захныкал пьяный и скрылся во тьме.
- Не надо было тебе с этой дрянью связываться, Павлик, - вздохнул Александр Сергеевич, вышедший следом за братом на улицу. Он еще пойдет...
Павел расхохотался и похлопал брата по плечу, разряжая накопившуюся ярость.
- Никуда он не пойдет, Сашенька. А если и пойдет, то здесь же, на Аксайской, общественно-показательный процесс проведем и в такие тартарары за хулиганство упрячем, что ему и не снилось.
- Ну вот в тебе и заговорил новоиспеченный городничий, - развел руками Александр Сергеевич.
- А куда же деться, - вздохнул старший брат. Мальчишки и Надежда Яковлевна с восторгом смотрели на него. Александр Сергеевич с чувством восхищения, смешанного с завистью, думал о том, сколько нерастраченных сил бушует в здоровом теле брата. "Слава богу, что хоть он не унаследовал от покойной матушки бронхиальную астму".
Они вошли в дом, снова сели за стол. Окончательно успокоившись, Павел взял рюмку за тонкую ножку и, сдаваясь, сказал:
- Вот видишь, Саша, выходит, не я, а ты был прав. Слишком еще рано пить за счастливую жизнь, если рядом с тобой существуют такие типы, как этот. Но что поделать, все-таки властушка наша Советская выдержала поход четырнадцати держав. Уж как-нибудь справится она с такими мелкими дебоширами. Силы для этого ни у кого занимать не надо. Давайте лучше за мое назначение выпьем, если не возражаете, разумеется.
- Давай, брат, - сказал несколько расстроенный Александр Сергеевич.
После ужина дети ушли в свою комнату, Надежда Яковлевна на кухню, а братья, как обычно, уединились в кабинете. Павел провел пальцем по разноцветным корешкам книг одинакового формата, стоявших на библиотечной полке. Его заинтересовали незнакомые, не по-русски тисненные золотые надписи. Сдувая с пальца пыль, спросил:
- Что это у тебя?
- Это? - Александр Сергеевич близоруко сощурился, потянулся вдруг за пенсне, но не взял его со стола. - Это все, Павлик, иностранные словари, понимаешь ли.
Глаза у гостя расширились от удивления.
- Да ну! - воскликнул он обескураженно. - Неужто ты теперь столько чужих языков знаешь?
- Что ты, что ты, - замахал Александр Сергеевич руками. - Если разобраться, так толком ни одного. Разве вот древнегреческий чуть больше. А немецкий, французский, английский совсем слабо.
- Зачем же тебе древнегреческий? Ведь всякие Александры Македонские да Диогены отговорили на нем, и баста. Л нам надо теперь современные иностранные языки изучать, чтобы единство свое крепить с рабочим классом других стран на тот случай, если мировая революция закипит.
Александр Сергеевич медленно потянулся к стоявшей на столе раскрытой пачке астматола, насыпал на блюдце с порхающими ангелочками горстку порошка и поджег. Синий дымок возник в комнате, набился неприятным запахом в ноздри Павлу, который невесело про себя подумал: "И как он только курит, бедняга, такую дрянь! Что только проклятая болезнь не заставит делать..."
Александр Сергеевич усмехнулся:
- А ты уверен, что она произойдет?
- Еще бы! - горячо воскликнул Павел.
- А я нет, - сухо возразил Александр Сергеевич, и они пристально посмотрели друг на друга.
- Да, ты интеллигент, это верно, - пробурчал Павел. - Одна мать нас родила, а характеры у нас разные. Ты в отца пошел, умеренного негоцианта, а я в бунтаря деда Андрея. И судьбы от этого у нас разные вышли.
- Разные, говоришь? - вздохнул младший брат. - Тут ты против истины не погрешил. Но задумайся над тем, что и у народов разные судьбы, и далеко не во всех странах найдется человек, подобный Ленину, чтобы такую революцию подготовить и совершить.
- В этом ты прав, - горячо подхватил Павел. - Ленин во всем мире один. Во всей истории. А дальше каковы твои доводы?
- Дальше, Павлик, надо считаться с тем, что есть народы, которые не созрели еще для мировой революции. До поры до времени они будут стараться жить в мире и согласии со своими правительствами, надеяться на их обещания. И потом учти, что капитализм, он разный. Ты думаешь, во всех странах капиталисты города и села кровью заливают, как это делал у нас в России царь Николашка и его приспешники? Не-е-ет. Там они гораздо опытнее и тоньше во всех своих деяниях. Политика кнута и пряника, к которой они прибегают, довольно хитрая и коварная. Она им помогает не только держаться у власти, но и раскалывать революционное движение.
Под старшим Якушевым заскрипел стул.
- Значит, ты пессимист? - спросил он рассерженпо.
- Почему же? - обезоруживающе посмотрел на него Александр Сергеевич.
У него была всегда такая особенность: если в споре противник особенно распалялся, он встречал его робким взглядом, но все равно стоял на своем.
- Конечно, пессимист, если в мировую революцию не веришь, - повторил брат.
- А я этого тебе не сказал, - покачал лысой головой Александр Сергеевич. - Я другое тебе предсказываю, братишка. Не произойдет она ни через десять, ни через двадцать лет, твоя мировая революция.
- Ерунда, - замахал руками Павел. - Пессимист ты, Сашок, подлинный пессимист.
- А по-твоему как?
- По-моему, - убежденно заявил Павел, - мы чуточку окрепнем, города и села восстановим, оружие выкуем и попрем на мировую революцию - весь земной шар советским делать. И нас в любой стране рабочий класс поддержит.
- Ох, Паша, Паша, - засмеялся Александр Сергеевич и тотчас же закашлялся. Кашлял долго, то и дело хватаясь аа грудь и сплевывая в консервную банку клейкую слюну. А старший думал в эту минуту: "Бедный мой брат! Как тебе достается и как стойко ты борешься со своим неизлечимым недугом".
- Постой, - сказал Александр Сергеевич, тяжело дыша, когда приступ миновал. - Ведь ты кроме мировой революции еще о чем-то хотел сказать. Кажется, о моих иностранных словарях?
- О них, - обрадовался напоминанию Павел. - У пас в штабе Южного фронта перед штурмом Перекопа комиссар был по фамилии Мальвиц. Так вот он утверждал, что после мировой революции нам не понадобятся ни русский, ни английский, ни японский, пи другие языки, а будет для всех один, упрощенный. Он даже сказал, как этот язык люди станут называть. Вот забыл, подожди, сейчас вспомню. - Павел наморщил лоб и обрадованно воскликнул: - Эсперанто, вот как.
Лысина над мохнатыми бровями Александра Сергеевича побагровела, и он сердито ударил ладонью о зеленое сукно письменного стола.
- Может, и жены будут общие, как об этом наши донские казачки по станицам гутарят? Приехал в Токио с одной, переспал в Сан-Франциско с другой, а домой возвратился, глядишь, и у твоей супруги новый сожитель. Так, что ли?
- Да нет, ты не упрощай, - смутился Павел. - Язык эсперанто дело доброе.
- Доброе! - вскричал младший Якушев. - Да твой этот самый Мальвиц либо законченный подлец, либо враг всего народа нашего. Как это можно,чтобы весь мир одним языком пользовался! Тогда погибнет вся культура. Погибнет наука, философия, искусство. Песен и танцев не станет русских. Ты представь, до чего мы дойдем, если украинцам запретят читать на своем языке знаменитый "Кобзарь" Тараса Шевченко, англичанам ставить в театрах пьесы Шекспира, нашим донским казакам - петь свои старинные походные песни, а всем русским людям повелят читать "Евгения Онегина" не на своем языке, а на этом самом обезличенном эсперанто! Да ведь это опаснее всякого Врангеля! Ты-то сам читал "Евгения Онегина"? - спросил он неожиданно.
- В камере, - скупо ответил Павел.
- А-а, - произнес Александр Сергеевич, и это прозвучало как одобрение.
Брат смотрел на него ласково потеплевшими глазами. Морщинки расправились на его щеках, лицо стало свежим и добрым, утратив свою обычную суровость.
- А знаешь, - проговорил он, улыбнувшись, - ты сегодня много мне полезных советов преподал. Домой поеду, буду о них думать. Ты так говорил, что хоть в партию тебя принимай.
- Куда там! - развеселился Александр Сергеевич. - С коробкой астматола, что ли? Какой же я, к черту, партиец, если живу от приступа до приступа. Нет уж!.. - Он посмотрел на стенные часы с кукушкой, давно переставшей выполнять свою службу, и предложил: - Полночь скоро. Может, у нас заночуешь?
- Нет, братишка, спасибо, - поблагодарил Павел и потянулся за фуражкой, которую, войдя в дом, положил в кабинете на желтый ящик от теодолита. Однако, взяв ее в руки, он продолжал сидеть, и Александр Сергеевич, догадываясь, будто что-то удерживает брата, тихо спросил:
- Еще сказать что-нибудь хочешь?
- Хочу, - признался Павел, обрадованный его вопросом. - Только рассказать про всё это я должен так, чтобы ни одна живая душа не слыхала.
- Самые маленькие живые души уже спать ложатся, - улыбнулся брат, - а одна взрослая будет долго еще уборкой на кухне заниматься. Так что говори.
Павел, соглашаясь, кивнул.
- Учти, я с одним тобой хотел посоветоваться.
- Я весь внимание, - сказал Александр Сергеевич.
- Ты помнишь, как я рассказывал про гибель Лены, единственной женщины в моей жизни?
- Еще бы! - кивнул Александр Сергеевич. - Такой рассказ до конца дней моих будет помниться.
- Я тогда про белого офицера упомянул, того, что колодкой маузера хотел меня оглушить. Понять не могу, почему он не выстрелил. Или шума решил избежать лишнего, или пушка осечку дала.
- Ты еще сказал в тот вечер, Паша, что, может, ходит он теперь по нашей земле, да еще и речи за Советскую власть произносит.
- Свежая у тебя голова, братишка. Говорил и это. Ну так вот, Саша, кажется, встретил я его тут на днях и хожу теперь как чумной.
Александр Сергеевич сипло задышал от волнения:
- Где?..
- Здесь, у нас, в Новочеркасске. А если еще точнее, так в нашем гастрономе, на самой центральной улице. И самое странное, что был он в военной форме, но без петлиц и знаков различия. В хромовых сапогах, а на гимнастерке ордена боевого Красного Знамени.
- Вот это да! - растерянно воскликнул Александр Сергеевич. - Значит, он своей внешностью напомнил тебе того самого офицера?
- Да.
- А ты, Паша, ошибиться не мог?
- Исключается, - возразил Павел и угрюмо опустил голову. - Слишком я хорошо его, мерзавца, запомнил. Те же черные глаза с большими белками, толстые губы, кудрявые волосы. Замечу, что он был без фуражки, и от этого сходство увеличилось.
- Думаешь, он тебя узнал?
- Вероятно. Недаром мгновенно кинулся к выходу. Не бегом, конечно, как мелкий карманник, но довольно поспешно. Сразу повернулся ко мне спиной и вышел быстрым шагом.
Александр Сергеевич взял со стола папиросную гильзу, заранее начиненную астматолом, дрожащими пальцами сунул в рот. Потянулся за спичками, но движение так и осталось незаконченным.
- Постой, постой, - произнес он не совсем уверенно, - а ведь у нас в городе действительно есть красный командир, который ходит летом всегда в одной гимнастерке и с непокрытой головой. Точно, у него три ордена Красного Знамени. От его рассказов о боях на Перекопском перешейке мальчишки буквально с ума сходят. Он почти всегда шествует в их окружении. Имеет привычку поигрывать кавказским ремешком. Волосы у него действительно курчавые, а глаза с большими белками. Я на торжественные заседания не хожу из-за астмы, раскашляться боюсь на людях. Пригласительные присылают, а я их дома стопочкой складываю на память. Но от своих коллег много раз слышал, что этот орденоносец на всех заседаниях присутствует и даже с приветственными речами выступает по случаю разных юбилеев и годовщин. Как его фамилия, вот запамятовал, - Колес-ниченко, Богатыренко, Крамаренко... Нет, нет. Федоренко... тоже нет. Погоди, сейчас вспомню. Ага, Прокопенко, точно, Прокопенко, - с удовлетворением повторил Александр Сергеевич. - Но, возможно, ты ошибся?
- Нет, - замотал головой Павел, - ошибки быть не могло. То самое лицо, тот самый взгляд. Только на губах у него пена вскипела в ту нашу встречу, когда я руку его к земле гнул. Но Прокопенко... Откуда я мог запомнить эту фамилию? Уж очень знакомо она звучит. Где-то я слыхал ее... - Он схватился ладонями за виски и воскликнул: - А, вот где!
- Успокойся, Павлик. Ошибка памяти.
- Исключается, Александр.
- Если ты в этом уверен, это страшно. Страшно потому, что при встрече и он тебя наверняка узнал. И выход у него один: немедленно убираться из нашего города, замести следы. И я бы на твоем месте...
- Что бы ты сделал на моем месте, Саша?
- Ты теперь не рядовой большевик, а председатель всего горсовета. И, раз такое подозрение появилось, я бы немедленно поделился им либо с начальником ГПУ, либо с начальником милиции, либо с городским прокурором.
На столе у Александра Сергеевича лежала прямоугольная отлитая из чугуна пепельница с барельефом пасущегося стреноженного коня. Павел пододвинул ее к себе и с минуту пристально рассматривал тонкое литье.
- А если я все-таки ошибся? - пожал он неуверенно плечами. - Ведь всегда же есть один шанс из тысячи, который вырастает в основной и в решающую минуту берет верх. Поднять напрасную тревогу по ложному поводу означает растоптать в глазах твоих ближайших соратников по общему делу собственный авторитет. Нет, брат, слишком велика доля риска, чтобы идти на него при таком недостаточно надежном козыре, как зрительная память. Подожди, Саша, надо все поточнее выверить. - Он вдруг ударил себя ладонью по лбу и вскричал: - Прокопенко, Прокопенко! Ну и хорош же ты гусь, Павел Сергеевич! И как же я сразу не вспомнил? Голова садовая, ведь командир эскадрона Прокопенко на самом деле служил в нашей дивизии. Это был действительно лихой разведчик и один из первых кавалеров боевого Красного Знамени. Третий орден ему сам Михаил Васильевич Фрунзе по поручению реввоенсовета вручал. А я-то турусы на колесах тут развожу! Из мухи слона воспроизвел, да и только.
Сквозь плоские стекла пенсне Александр Сергеевич долго и безрадостно смотрел на брата. Он не почувствовал искренности во всей этой его браваде и, когда Павел собрался уходить, недоверчиво буркнул:
- Это хорошо, если все так, как ты сейчас мне об этом сказал, но если по-иному обстоит дело и первая твоя догадка верна, поостерегись, Паша. Они, эти бывшие защитники престола и отечества, своих врагов не прощают. Жестокие они, как все затравленные звери.
- Ладно, ладно, Саша, - с наигранной беспечностью проговорил Павел. - Бог не выдаст, свинья не съест. - И через несколько минут копыта Зяблика гулко застучали по кособоким булыжникам Барочного спуска, унося старшего Якушева к центру города.
...На скрещении Барочного спуска и Кавказской улицы бушевал костер. Высоко в ночное небо столбом поднималось алое пламя. Человек сто молодых ребят и девчат стояли в кругу. Это было одно из тех веселых сатирических представлений, которые так часто устраивала по вечерам на улицах Новочеркасска молодежь. Два парня, по обличию студенты, бросали в огонь большую расписную куклу из картона с цилиндром на голове. Кто-то весело восклицал:
- Чемберлена в костер, Деникина поставить на очередь!
Жизнь шла своим чередом. Павел Сергеевич хотел было проехать мимо, но вдруг звонкий молодой голос удержал его. Натянув повод, Якушев остановил послушного Зяблика. В отблесках костра он увидел девушку в длинном развевающемся платье. Она самозабвенно танцевала цыганочку. Светлые волосы волнами падали на шею и плечи. "Боже мой! - воскликнул про себя он.-Да ведь это же Валентина! Сколько в ней огня и задора... А я-то, чудак, мещанские повадки пытался ей приписать. Правильно она меня отбрила, моя милая секретарша. А что это за худощавый парень рядом с ней? Вероятно, и есть тот самый студент из Политехнического института, о котором она говорила".
Девушка не заметила Якушева. Охваченная порывом веселья, она прекратила пляску и озорным голосом запела шуточную песню. Ее тотчас же подхватили остальные. Дружные голоса выплеснулись в ночь:
Зазвенели колокольчики колокольцами, Все святые недовольны комсомольцами. Старый бог как посмотрел, что за перемены, В трое суток облысел, как колено. Объяснять немного надо, что такое был Христос, То, что умер он, - возможно, то, что он воскрес, - вопрос.
Якушев еще раз посмотрел на литую фигуру веселившейся своей секретарши Валечки и горько вздохнул, подумав о погибшей, но так и не забытой им Лене. "Если бы не белогвардейская пуля, может быть, и у меня была бы сейчас дочка и шел бы ей уже восьмой год". Он тронул повод, и Зяблик размеренным шагом двинулся вперед.
Шли дни. Город по-прежнему лихорадило. По ночам па окраинных улицах нередко раздавались выстрелы и милицейские свистки. Павел Сергеевич Якушев уже совсем было забыл о человеке, встреча с которым так остро напомнила ту трагическую ночь на Сиваше, когда он навеки потерял Лену. Белокурая секретарша Валечка, как и прежде, каждое утро оставляла у него на столе пачку неотложных дел, но у Якушева не всегда хватало времени со всеми ними ознакомиться, потому что значительная часть рабочего дня уходила на всевозможные проверки, заседания и практические разбирательства, ежедневно проводившиеся на заводах и фабриках Новочеркасска, в городских учебных заведениях и лабораториях. Не всегда спокойно и ритмично шла жизнь. В последнее время ее течение нарушали самые непредвиденные события. Могло показаться, что кто-то умышленно совал палки в движение большого колеса, и от этого оно начинало сбавлять обороты, а то и останавливалось вовсе. Как-то в середине дня у него в кабинете раздался длинный, настойчивый звонок, и в трубке послышался голос начальника городского ОГПУ, бывшего кронштадтского боцмана Ловейко:
- Павел Сергеевич, информирую самым срочнейшим образом. У нас новая беда. Еле-еле уберегли нефтеналивной состав от крушения. Если бы не путевой обходчик, полыхали бы цистерны до сих пор. Не исключено, что и оба наших вокзала сгорели бы. Сейчас выезжаю на место происшествия. Если хочешь, побывай там. Все-таки докладывать и тебе придется об этом.
Якушев приехал незамедлительно. За кольцом оцепления бушевала любопытствующая толпа. Слышались яростные выкрики: "В порошок его, суку, стереть! Какого старикана угробил! Дали бы нам его па полчасика!.."
Часовые Якушева узнали. Оставив свой автомобиль за кольцом оцепления, Якушев подошел к свежевыбеленной будочке стрелочника. Еще издали увидел кряжистую боцманскую фигуру Ловейко. Тот был в тельняшке и черном теплом бушлате, потому что со стороны Аксайского займища тянуло холодом. Над железнодорожной насыпью и будочкой стрелочника гулял колючий ветер, взвихривая пыль.
- Здравствуйте, Иван Корнеевич, - пробасил Якушев, подходя.
Ловейко поднял черноволосую, с проблесками седины голову, отрывисто произнес:
- Состав удалось спасти. Слава богу, как говорится... А вот его нет.
Якушев перевел взгляд туда, где, расходясь в сторону, змеились тускло поблескивающие рельсы. Увидел неподвижное тело. Пожилой человек в белой холщовой рубашке, подпоясанной широким солдатским ремнем, лежал навзничь, запрокинув лицо, покрытое жесткой седой щетиной, и, казалось, умиротворенно вглядывался в проплывающие по небу облака застывшими глазами, из которых даже смерть не могла вытравить выражепия доброты и покоя.
- Вот, - осипшим голосом выговорил Ловейко. - Если бы не он, взлетели бы сорок четыре цистерны с горючим на воздух, а вместе с ними и два вокзала: каменный первого класса и деревянный третьего. Печальный был бы итог...
- Как это произошло, Иван Корнеевич?
Чекист достал пачку папирос, неторопливо затянулся.
- Не столь уж сложно, Павел Сергеевич, - сказал он грустно. - Час назад, минут за пятнадцать до прохода этого состава, трое вооруженных бандитов ворвались в будку путевого обходчика. Старик завтракал. На столе так и осталась недопитая крынка молока да кус ржаного хлеба. Диверсанты вывели обходчика из сторожки и, угрожая оружием, потребовали, чтобы он перевел входную стрелку - тогда бы состав цистерн, наполненных бензином, попал вместо третьего на второй путь и прямиком врезался в битком набитый пригородный поезд Шахты - Ростов. А какая трагедия произошла бы, ты отчетливо себе представляешь... Сколько бы гробов пришлось на городское кладбище под траурный марш проносить, тебе ясно. Однако этот казак из станицы Мелиховской оказался твердым мужиком, царствие ему небесное. Принял бой против троих. Итог таков: убит двумя пулями из кольта, но время было выиграно. Машинист заметил схватку на рельсах и остановил состав. Такому памятник не жалко из бронзы отлить. Это я тебе не лозунги какие-нибудь говорю.
- А белобандиты?
Ловейко потер гладко выбритый подбородок, вздохнул. Словно отмахиваясь от чего-то страшно неприятного, но неотвратимого, обронил:
- Один сбежал, второй убит наповал машинистом, у которого оказалось оружие. Почему оказалось, разберемся, но сейчас не это главное. Третий схвачен. Хочешь полюбоваться? Я тебе сейчас такую возможность предоставлю. Эй, Май-стренко, приведи задержанного.
Красноармеец конвойных войск торопливыми шагами направился к сторожке.
- А ну вытряхивайся, падло! - крикнул он, распахивая дверь. - Тебя сам начальник требует.
- Бог мне начальник да российский царь Николай Второй, которого вы, самозванцы, без суда и следствия расстреляли, - огрызнулся арестованный.
- Иди, иди! - прикрикнул конвоир. - Да не вздумай забаловать, иначе я тебя на штык, как сонную муху, в один миг насажу.
Диверсапт был высок и худ. Скуластое лицо его с надменпым взглядом зеленых глаз, прикрытых квадратными стекляшками пенсне, казалось невозмутимым. Руки его были заломлены назад и связаны накрепко жесткой капатной веревкой. Ветер шевелил светлые волосы на непокрытой голове. Черная рабочая спецовка так и не смогла придать ему вид железнодорожного мастера: на сытом холеном лицо застыла гримаса презрения ко всему окружающему. Ловейко тихо, но грозно сказал, кивнув на гудевшую толпу:
- А что, если я вас, мерзавца, отдам в их руки?
- Не имеете права, - мгновенно побледнев, пробормотал задержанный.
Брови чекиста угрюмо сдвинулись.
- Ага, теперь вы о правах заговорили. Возможно, уголовный кодекс республики прочли, прежде чем оружие против Страны Советов поднимать? - Он ткнул в него коротким указательным пальцем. - Кто вы?
Диверсант опустил голову.
- Отпираться бесполезно, - сказал он хмуро. - Когда остаешься без последнего шанса, игра проиграна, каким бы опытным игроком ты ни был...
- Верно, - усмехнулся Ловейко, - теперь все шансы в наших руках, в большевистских. Так кто же вы, господин?
- Поручик лейб-гвардии казачьего полка Сташинский,- отчеканил белобандит.
- Спасибо за признание, - недобро усмехнулся Ловейко и кивнул на труп несчастного стрелочника. - Так это ваши две пули в нем?
- Сожалею, что не три.
- Три пули вы и сами получите по приговору военного трибунала, - взорвался молчавший до этого Павел Сергеевич, но тотчас же почувствовал на локте жесткие пальцы чекиста.
- Представитель городской власти, где же ваша выдержка? - шепнул ему на ухо Ловейко.
- Извини, пожалуйста, - так же тихо ответил ему Якушев.
Толпа надвинулась, грозно загудела.
- Да что там с ним церемониться! - раздался полный ярости голос. - Надо его мордой по рельсам до самого вокзала протащить!
- Камнем по черепу пора треснуть белобандита!
- Повесить немедленно за дядю Колю! - закричал круглолицый парень в казачьих штанах с лампасами и залатанных сапогах. - У стрелочника четверо сирот остались мал мала меньше.
- Тише, граждане!-перекрыл Ловейко весь этот шум своим басом. - Революционный суд во всем разберется и вынесет справедливый приговор. А сейчас я при вас, как при свидетелях, хочу задать этой контре один вопрос. - Толпа стихла, и голос чекиста в наступившей тишине прозвучал грозно: - Гражданин бывший поручик бывшей царской гвардии, вас было трое?
- Так точно, - растерявшись, ответил арестованный.
- Один из троих убит. Второго не позднее чем через день-два найдут и посадят. Стало быть, судьба его тоже, считай, решена. Не сомневаюсь, что третьему, то есть вам, суд вынесет самый суровый приговор. А теперь ответьте на такой вопрос, господин бывший поручик Сташинский. Сколько советских людей вы надеялись уничтожить, взорвав сорок четыре цистерны с горючим?
- Чем больше, тем лучше! - выкрикнул задержанный, и снова зашумела, заволновалась толпа.
Ловейко поднял руку. Сдерживая и свою ярость, и этот ропот, сказал:
- Вы уничтожили одного человека - путевого обходчика, а диверсия осталась неосуществлённой. Как видите, ни один советский человек больше не пострадал. Увести его!
Когда арестованного увезли, Ловейко отвел Якушева в сторону:
- Я не уверен, что эта акция является самодеятельностью. Давайте вспомним. За один лишь месяц пожар на хлебокомбинате, два убийства, и вот третья, самая опасная, но провалившаяся, к счастью, диверсия. Убежден, что в нашем городе работает хорошо спланированное белогвардейское подполье. Вечером тебе позвоню, Павел Сергеевич.
В конце дня Якушев еще раз услышал голос Ловейко:
- Добрый вечер, дружище. Подозрения мои полностью оправдались. Арестованный раскололся на допросе и признал существование белогвардейского центра в Новочеркасске. Божится, что руководителей не знает, а держал связь лишь с одним из его представителей. Дом этого бандита берем под наблюдение. Всего доброго, Павел Сергеевич. Если тебе понадобится какая-нибудь информация, звони.
Промелькнула неделя. Работа настолько поглотила Якушева, что у него не выдавалось ни одного свободного вечера па отдых. Даже брата родного не смог навестить за это время ни разу: десятки людей, явившихся по неотложным делам, заполняли приемную, и даже отважная секретарша Валечка была не в силах задержать это нашествие. Она только раскрывала время от времени дверь и с порога произносила: "Павел Сергеевич, к вам завгороно Позднышев", или: "В приемной городской архитектор с планами застройки Хотунка. Спрашивает, когда сможете выслушать". И, потирая со вздохом лоб, Якушев произносил: "Давай начальника наробраза", "Впусти архитектора".
Закончив прием, он садился в автомобиль и выезжал на объекты.
Трудно жилось Новочеркасску в те дни. Стоило прохожему сойти с более или менее чистых и благоустроенных Платовской и Московской улиц, как он попадал в мир заросших лопухами и крапивой пустырей, в царство опустевших дворов, покинутых хозяевами то ли в нелегкое время боев за город, то ли в год опустошительного голода и тифа. Но сейчас улицы стали заметно оживляться, на пустырях не только жгли бурьян, но и рыли фундаменты для новых построек.
Якушев получил в свое распоряжение зеленый "форд" с открытым верхом и клаксоном, который довольно бойко воспроизводил мотив "Кукарачи", когда надо было попугать зазевавшегося пешехода или кумушек, остановившихся посудачить на самой середине какой-нибудь городской улицы. Однажды секретарша вошла к нему в кабинет без вызова и положила с усмешкой на стол картонный листочек.
- Что это? - озадаченно спросил он.
- А вы почитайте, - прыснула Валечка в кулачок.
Якушев, вглядываясь в шрифт, приблизил листок к глазам: "Ордер номер три на пошивку костюма из материала бостон". Он еще не успел никак прореагировать на эту неожиданность, как позвонил первый секретарь горкома партии Тимофей Поликарпович Бородин.
- Здравствуй, Павел. Тебе Валентина передала мой подарок?
- Передала, Тимофей.
- Учти, таких ордеров па город всего десять.
- За чем же остановка? - обрадовался Якушев. - Вот и надо раздать их ударникам труда, а не таким чиновникам, как я.
- Кому раздать, мне лучше известно, - суховато остановил его первый секретарь. - Ударники ударниками, но чего же хорошего, если человек, исполняющий обязанности главы горсовета, будет носить пропотевшую гимнастерку! Чтобы через три дня явился в новом костюме и доложил. А то получил новую машину лучшей в мире фирмы "Форд", а военной формы не снимаешь. Того и жди, обитатели Новочеркасска решат, что объявлена мобилизация.
Пришлось повиноваться. Когда в своем первом после гражданской войны штатском костюме Якушев переступил порог приемной своего кабинета, Валечка всплеснула руками:
- Павел Сергеевич, да как же вы помолодели!
- Черт побери, - смутился Якушев,-все носил: и шахтерскую робу, и арестантский халат, и кавалерийскую шинель, а вот костюм из бостона, клянусь как на духу, - первый раз в жизни. А как же быть с орденами? Носить их или не носить?
- Носить! Конечно же носить!-пылко воскликнула Валечка. - И вопроса такого не задавайте. Они так красиво будут смотреться на вашем пиджаке.
- Придется подчиниться, - развел руками Якушев.
Вечером, прикрепив на лацкан один за другим два боевых ордена, он покинул помещение горсовета. Жил он в гостинице "Южная", до которой от атаманского дворца было рукой подать. Перейти скверик - и вот она. У памятника Платову он задержался и, вспомнив о только что полученном циркуляре, скорбно подумал: "Да, атаман-батюшка, герой края казачьего, как бы скоро расстаться с тобой не пришлось... Сносить тебя придется, и никуда от этого не уйти. А ведь сколько добра сотворил ты нам, роду Якушевых... Не пригрей ты в свое время холопа беглого, нашего деда Андрея с его верной Любашей, и не было бы Сашки-астматика, проповедующего теперь в техникуме геодезическое дело, и не махал бы я клинком острым в жестокой перекопской сечи, и не было бы этих стрекулистов, племянников моих, Гриши и Веньки, которым власть наша уготовила судьбу светлую. Что поделать, придется тебе, Матвей Иванович, освободить постамент для другого героя, который и нас всех, да и тебя, выше. Но место мы тебе найдем, достойное место. А на этом постаменте, перед штабом партийным нашим, должен стоять тот, кто указал пам дорогу на века вперед, - Ильич. - Павел Сергеевич попридержал шаг и насмешливо укорил себя: ишь ты, уже и в мыслях своих стал лозунгами выражаться. Совсем как па митингах".
Над Новочеркасском властвовал день, хотя часовая стрелка уже передвигалась к вечеру. Щедро обласканные солнцем, золотились крыши домов на широкой Московской улице, а над всеми крышами и шпилями Новочеркасска ярко сверкали позолоченные купола кафедрального собора. В многочисленных ларьках торговали мороженым, конфетами и лимонадом. По крепкой булыжной мостовой цокали копыта ломовых лошадей, везущих мешки с продовольствием. Промчался грузовик, на борту которого белыми буквами было написано: "Граждане! Все на коммунистический субботник!"
Медленным шагом порядком утомленного человека Якушев пересек широкую в этом месте Платовскую улицу и очутился перед красно-коричневым зданиехМ городской гостиницы, где он жил. Идти сразу в свое душноватое жилище не захотелось, и он решил прогуляться по Московской. На цементной тумбе висела разодранная афиша, с которой улыбалось миловидное лицо молодой привлекательной прима-балерины харьковской оперетты Лилианы Тальской. Вверху афиши выделялась надпись: "Только три гастроли в Александровском саду. Билеты продаются в вестибюле гостиницы "Южная". Он вдруг вспомнил, как, возвращаясь в один из тех дней в гостиницу, увидел у входа расстроенную студентку, украдкой утиравшую слезы.
- С какой вы это стати? - грубовато спросил Павел Сергеевич.
- Да как же, - всхлипнула девушка. - Со всего курса собирала деньги на коллективное посещение, а кассир даже разговаривать со мной не захотел. Сказал, что я курносая, а он курносых не любит и ни одного билета не продаст. И па свидание стал приглашать нахально.
- Остряк, - возмутился Якушев. - А ну-ка идите за мной, сейчас мы все отрегулируем.
В вестибюле он громко постучал в окошко кассы. В нем тотчас же возникло лицо респектабельного симпатичного мужчины с кавказским профилем и тонкими усиками над верхней капризно изогнутой губой.
- Товарищ кассир, билеты у вас есть?
- Канэшно.
- Так продайте, пожалуйста, этой девушке двадцать билетов для студентов.
- Нэ продам, - отрезал мужчина.
- Почему?
- Во-первых, она мне дерзила, а во-вторых, я не кассир.
- Зачем же вы тогда здесь сидите? - пожал плечами Якушев. - И если не кассир, то кто же вы?
- Я муж балерины Тальской, - гордо ответил мужчина и ткнул себя указательным пальцем в грудь.
- А днем чем вы занимаетесь? - спросил рассерженный Якушев.
Люди, стоявшие и сидевшие в вестибюле гостиницы, засмеялись. Респектабельный мужчина, пахнущий дорогими духами и отборным коньяком, выскочил из кассы, сделав устрашающие глаза, шагнул к Якушеву, но, увидев на его гимнастерке ордена и шпалы в петлицах, мгновенно сник. А Якушев, приняв смиренную позу, повторил:
- Вы уж пожалуйста... я вас очень прошу. Всего двадцать билетов.
И девушка ушла осчастливленная. Эта история быстро распространилась по всему Новочеркасску, но нисколько не повредила репутации "градоначальника в кавалерийской рубашке", как сначала нарекли Якушева многие интеллигенты.
Пройдя мимо угловой тумбы, оклеенной афишами, Павел Сергеевич задержался у распахнутых дверей промтоварного магазина. Он любил заходить в магазин, бывать невольным свидетелем иных сцен между продавцами и покупателями, что служило затем предметом для серьезных размышлений. Это помогало видеть жизнь во всех ее, порою весьма поучительных, противоречиях.
Вот и сейчас, чуть помешкав, он вошел в открытую дверь. Душноватый воздух плохо проветренного помещения и разноголосый людской говор обрушились на него. В этот день завезли партию разнодветных сатиновых рубашек, и у прилавка стояла длинная очередь. В ту пору негусто было с промтоварами, и желающих приобрести обнову оказалось много. Лысоватый вспотевший продавец не успевал выдавать покупки.
- Мне синюю, сороковой размер воротника!-кричал инвалид на деревянной култышке. - А вы мне что дали? Ведь этот воротник куда шире. Пускай такую рубашку Чемберлен носит!..
- Чемберлен худой, ему и сорокового достаточно, - поправил кто-то сзади.
- Ну, тогда разыщите в Париже генерала Деникина и на него наденьте, - не унимался инвалид.
Молодой парень в спецовке заметил:
- На Деникина не такой воротник надобен. Из пеньковой веревки ему, да на виселицу.
А продавец тем временем ловким движением выбросил на прилавок кипу рубашек, и строптивый инвалид, подобрав нужный размер, удовлетворенно крякнул.
- Вот это другой табак. В самый раз. Спасибочко за уважение.
- А что я вам говорил!-воскликнул юркий продавец.- Наша советская фирма "Москошвей" конкуренции не имеет. Мы реализуем трудовому донскому казачеству товар самого высокого качества. Кто следующий?
Внезапно он оборвал высокопарную свою тираду и застыл, изобразив всем своим видом предельное подобострастие. Лицо его какую-то минуту было похоже на неподвижную маску, а потом отразило целую гамму чувств: удивление, смятение, радость. Склоняя в поклоне чернявую голову с нафиксатуаренной лысинкой, он воскликнул:
- Счастливы вас видеть, товарищ орденоносец! Двери нашего магазина всегда широко открыты для вас. Первому герою Новочеркасска все без очереди. Прошу за ширмочку, Николай Модестович...
- Да нет, отчего же, уважаемый Петр Петрович, - раздался над притихшей очередью хорошо поставленный баритон. - Тем более я намерен всего лишь удовлетворить свое любопытство, как и всякий жаждущий лицезреть новинки. Нет ли у вас, кстати, нового выбора галстуков?
- К сожалению, - вздохнул продавец. - Однако могу заверить, ожидаем на будущей неделе. А вот роскошных материалов небольшое количество поступило, - понизил он голос. - Могу для вас лично предложить шевиот, английское трико, габардин отечественного производства. Шик-модерн, как говорится.
- Занятно, - прозвучал баритон снисходительно. - Благодарю вас, почтеннейший, и оставляю за собой право наведаться в другой раз.
- О да, о да, - закивал продавец, - кто же посмеет возражать! Вы для нас самый почетный покупатель и всегда желанный гость. Польщен вашим вниманием, Николай Модестович. До свидания, до свидания.
Люди расступились, и Павел Сергеевич увидел широкую спину с сильными лопатками, выпирающими из-под коверкотовой комсоставской гимнастерки, раструбы галифе и даже голенища влитых в икры хромовых сапог. Липкое, нехорошее предчувствие овладело им. Он видел затылок стоявшего к нему спиной человека, вьющиеся смолисто-черные волосы на его непокрытой голове и уже с напряжением ждал, когда тот обернется и пройдет мимо него. Ждал с необъяснимой тоской, не в силах сделать ни одного движения. И вот это мгновение наступило. Скрипнули подошвы хромовых сапог. Человек повернулся к нему лицом и медленно пошел навстречу. За одну секунду так ясно, словно бы яркое пламя осветило идущего, Якушев разглядел широкое землистосерое лицо с большими белками выпуклых глаз, лоснящиеся полные губы, разорванную шрамом мочку правого уха, синеву резко очерченного, старательно выбритого подбородка. И Павлу Сергеевичу показалось, будто этот человек, увидеть которого в своей жизни он уже и не надеялся, несет ему навстречу и запах соленого Сиваша, и темнеющую в степи санитарную палатку на отшибе от боевого расположения кавалерийского полка, и последний стон смертельно раненной медсестры Лены. И Якушеву даже представилось, что если он разорвет пуговицы на правом рукаве синей коверкотовой гимнастерки этого человека, то увидит на запястье четкий след. Ведь не может же быть, чтобы он, яростно гнувший эту руку к земле страшной железной хваткой, не оставил на ней такого следа!..
Еще не зная, как он поступит, Павел Сергеевич шагнул вперед, загораживая дорогу идущему. На мгновение взгляды их скрестились, и тот, кто шел навстречу, вдруг испуганно отвел глаза. Но лишь на секунду. Потом взгляд его снова стал холодным и надменным. Он остановился и сухо попросил:
- Разрешите пройти, товарищ.
Павел медленно отошел в сторону. Гулкими толчками билось сердце. "Нет, не он, - подумал Павел в растерянности. - Как же это я так опростоволосился! Хорошо, что еще бузу не затеял. Нечего сказать, историйка бы вышла... Ответственный работник горсовета устраивает дебош в публичном месте".
В эту минуту человек в синей коверкотовой гимнастерке, взявшись за ручку выходной двери, обернувшись, еще раз пристально и удивленно посмотрел на Якушева. "Он! - едва удержался Павел от крика. - Как две капли воды!"
Якушев уже не сомневался, что перед ним тот самый врангелевский офицер, который одним выстрелом разделил на две части всю его жизнь, лишив единственного человека, которому Якушев был бы верен до последнего удара сердца.
Покупатель в синей комсоставской гимнастерке спокойно закрыл за собой дверь и растворился в многолюдном вечернем потоке прохожих. В магазине дорожка к прилавку, за которым стоял бойкий Петр Петрович, опять исчезла, заполненная зеваками и покупателями. Никто ничего не заметил.
Словно слепой, поднялся Павел Сергеевич на второй этаж гостиницы, открыл дверь своего номера. Сев на застеленную кровать, сдавил ладонями гудящие от боли виски. Ошибка или оплошность? Неужели он выпустил невредимым этого гада? Да, но если бы без всяких оснований он попытался задержать известного всему городу обладателя трех ордепов Красного Знамени, как бы он выглядел в этом случае и что бы ему сказал тот же чекист Ловейко или первый секретарь горкома ВКП(б) Бородин.
Красные стены люкса, украшенные аляповатыми олеографиями, навевали тоску. Павел Сергеевич понял, что впереди его ожидают невеселая бессонная ночь и до боли в сердце горестные воспоминания о Леночке и недолгих ночах их чистой отчаянной любви, не считавшейся ни с голодом, ни с боями, в каких проливалась кровь, ни с постоянной угрозой смерти, висевшей над ними самими.
На тех же самых полях, где ежедневно десятками падали сраженные врангелевскими пулями красноармейцы и командиры, она торжествовала - их слепая от счастья, горькая любовь! И не было ей равной. Павлу Сергеевичу показалось, будто снова услышал он последнее дыхание Лены, увидел ее безвольно запрокинутую голову, ощутил на руках своих неотвратимый смертный холод, сковавший ее молодое, сильное тело. И сейчас он подумал о том, сколько стойкости и веры в торжество всего живого давала ему в те суровые Фронтовые дни их любовь.
"Он это был или не он?" - с тоскою спрашивал себя Павел, почти с ненавистью глядя на те же аляповатые олеографии и обои гостиничного номера. "Бежать! - восклицал он про себя. - Хоть к черту на рога, но только отсюда, от этих постылых стен!" Но голос разума тотчас же вносил поправку: "Зачем же к черту, если можно к родному брату, который поймет, подскажет..."
Павел снял телефонную трубку и вызвал машину. Садясь рядом с белявым веснушчатым пареньком, недавно завершившим воинскую службу и еще носившим гимнастерку со споротыми петлицами, Якушев спросил:
- Барочную, тринадцать, знаешь?
- Ха, - весело осклабился шофер Ваня. - Да кто же ее в нашем Новочеркасске не знает? Там же психбольница.
- Дуй от нее полтора квартала вниз. Угловой дом на правой стороне. Брат у меня живет младший в том доме.
Ваня уже запустил мотор, и "форд" затрясся на месте.
- Это Александр Сергеевич, что ли?
- Откуда знаешь? - скосил на него Павел невеселые глаза.
Шофер широко заулыбался:
- Дак ведь еще бы! Кто ж его в городе не знает! Я ему в техникуме па вступительных математику сдавал. Да вот не пришлось учиться, в армию взяли. Теперь опять думаю поступать. Экзамен снова держать надобно.
- Могу посодействовать, - улыбнулся Якушев. - Если хорошо подготовишься, разумеется.
- Да-а, он строгий, - протянул Ваня. - Прошлый раз принял у меня экзамен, да только сказал: "А при царе сдавали лучше". Я ему в ответ: "Так ведь царя давно прогнали, Советская власть теперь, а вы царя поминаете". Он брови нахмурил и сквозь пенсне этак строго на меня зыркнул. "Знаю, - говорит, - только если при царе сдавали лучше, чем вы это сделали сегодня, молодой человек, то при Советской власти надо сдавать в два раза лучше, чем при царе". Умыл ключевой водичкой, ничего не скажешь.
По тряским городским улицам "форд" благополучно доставил Павла Сергеевича к дому брата. По его просьбе Ваня три раза нажал клаксон, и хрипловатая "Кукарача" нарушила покой окраины. За забором послышался веселый голос Веньки:
- Папа, к нам автомобиль приехал! Зеленый! Во здорово!
- Да не ори ты как сумасшедший! - заворчал из коридора Александр Сергеевич. - Сейчас узнаем, но какому поводу.
Отворив парадную дверь, он несказанно удивился:
- Молодчина, Павлик, что прибыл, а то мы тебя уже пропащим считали. О, да ты на авто!..
- Смотри, какой красавец! - весело отозвался Павел.- А фыркает как, когда мой Иван мотор заводит! Экземпляр такой, что любой миллионер позавидует. Неминуемо первое место на любых автогонках взяли бы. Как ты полагаешь, Ваня?
- Законно, взяли бы, - без колебаний ответил шофер.- Миллионер, он кто? Магнат капитала, и только. А мы представители первого в мире государства рабочих и крестьян. Не так, что ли?
Братья рассмеялись, и Павел Сергеевич сказал:
- Вот видишь, Саша, какой у меня убежденный марксист за баранкой сидит! С таким мне никуда не деться. Ни в правый, ни в левый уклон. Стало быть, генеральная линия партии в Новочеркасском горсовете будет всегда выдержана. Кстати, Ваня, - обратился он к шоферу, - пока мы будем тут с Александром Сергеевичем беседовать, покатай ребят на своей жар-птице.
- Это можно, - степенно согласился шофер. - Я их до Московской улицы и назад.
- Да хоть до Балабановской рощи, но в пределах часа.
- Гриша, Веня, где вы? А ну побыстрее! - прикрикнул на них отец.
Автомобиль с ребятами уехал, а братья уединились в кабинете. Надежды Яковлевны не было дома, она гостила на этот раз у двоюродных сестер, которых было у нее в Новочеркасске множество, и братья хозяйничали сами. Расчистив письменный стол от студенческих тетрадок и свернутых в трубочки чертежей, Александр Сергеевич принес на посеребренном подносе блюдо с холодными котлетами, сливочным маслом и вазочкой, наполненной черной икрой. От спиртного гость отказался, лишь попросил стакан молока.
- Сегодня мне лучше, - похвастался Александр Сергеевич. - Даже воздух в кабинете астматолом, как видишь, не отравлен.
Разрезав котлету, он вдруг спросил:
- Павлик, я тут в газете заметку прочел о бандитах, убивших стрелочника. Кто они?
Свет от яркой настольной лампы, льющийся из-под голубого абажура, скользил по корешкам книг, освещал половину серого отечного лица Александра Сергеевича. "Бедная Надежда Яковлевна, как она с ним мучается", - сострадательно подумал Павел Сергеевич, а вслух сказал:
- Ты об этих выродках? Что ж, я тебе расскажу некоторые подробности, но пока идет следствие, надо, чтобы их знал лишь узкий круг.
- Однако брата в этот круг ты не впускаешь!-обиженно поджав нижнюю губу, усмехнулся Александр Сергеевич.- Как ты обо мне плохо думаешь, Павлик, если начинаешь с такого предупреждения. Разве я давал тебе для этого повод? - раздраженно закончил он.
Александр Сергеевич сидел в своем жестком кресле с высокими подлокотниками, а гость на венском стуле с затейливой спинкой, внесенном для него в кабинет из 'зала.
- Ладно, ладно, - возразил он спокойно, - не ворчи. Нравится не нравится, а предупредить тебя должен. Обязательно расскажу, потому что тебе полезно об этом знать. Ведь и ты, подобно многим интеллигентам, представлял себе когда-то царских офицеров как белых ангелов, которым только крылышек не хватает.
- Гм-м... а почему ты так говоришь? - Нижняя полная губа младшего брата снова обиженно вздрогнула.
- А потому, что ты раньше считал по наивности белую кость сословием возвышенным, благородным и прочее. А они попросту мясники, готовые с любой своей жертвой расправляться садистски даже теперь, когда самые злобные враги наши не сомневаются в незыблемости Советской власти. Ну так послушай.
Павел коротко рассказал о происшествии на железной дороге и заметил, как обычно добрые, несколько флегматичные глаза брата темнеют от негодования, а огромный лысый череп наливается краской. К концу его рассказа Александр Сергеевич раскашлялся и потянулся дрожащими пальцами за коробкой с астматолом.
- Какая мерзость! - проговорил он гневно. - А стрелочника жалко... Ведь когда шел на пост, утренней росе небось радовался, от высокого пебушка глаз оторвать не мог. И вот финал... Представляю, как трудно было этому вашему Ловейко гнев свой сдержать.
- Трудно, что там и говорить, - согласился Павел Сергеевич, - урок ему на пользу пошел.
- Какой?
- Скажу, но и это строго между нами. В двадцатом году Ловейко деникинского полковника допрашивал. Начальника контрразведки корпуса. Инквизитор, скажу тебе... Изысканный был аристократ. Вместо ответа на вопросы лишь издевался над нашим матросом. Ловейко и раз, и два его предупредил. Деникинский полковник на это никак не прореагировал. Ловейко говорит: "Где же ваша совесть офицерская была, когда вы огнем ни в чем не повинных малолетних детишек пытали?" Тот ему в ответ: "Если бы тебя, большевистское быдло, мне на часок дали, я бы тебя на крюке велел подвесить, своею бы рукой звезды пятиконечные на спине вырезал и шкуру на память снял. Вот такой гуманности красные выродки заслуживают". Не выдержал Ловейко: кулаком в висок того полковника стукнул, да не рассчитал. Тот богу душу свою Проклятую и отдал.
- И что же потом? - закашлявшись, спросил Александр Сергеевич.
- Судил нашего незадачливого матроса за недозволенные методы трибунал, и очень суровая кара ему бы выпала, если бы не наше заступничество. Когда на суде обвинительный акт зачитали, командир полка Добыш слово взял. Неречист был, но башковит. "Граждане судьи, - говорит, - неужели же мы у верного бойца революции, бывшего кронштадтского боцмана Ловейко жизнь отымем за то, что он гада омерзительного доконал? Я собственными ушами слышал рассказ подсудимого о том, как он в своей деревне на спор одним ударом кулака быка укокошил. А вот тут промашка вышла. Не рассчитал товарищ Ловейко собственной силы, разволновался малость, и одним гадом на земле нашей российской меньше стало". Как ни хмурились члены трибунала, а оправдательный приговор мужику вынесли.
Александр Сергеевич залился тонким смешком и стал вытирать скомканным носовым платком слезы. Однако старший брат уже посерьезнел, и взгляд его сделался суровым.
- Побасенки - это хорошо, - медленно произнес он, - а вообще, Саша, видимо, не кануло еще в Лету наше тревожное время и не до конца разоружились враги революции. Того же самого поручика Сташинского, что должен был па пашей станции крушение организовать, на допросе прижали, и он засвидетельствовал, что есть в городе подпольный террористический центр...
- А имена его руководителей назвал?
- Ишь ты какой прыткий, - горько усмехнулся Павел Сергеевич. - Поражаюсь твоей наивности. У них руководители тоже головастые. Рядовым исполнителям не слишком-то доверяют. Сташинский показал, что имел дело с одним лишь человеком из центра по кличке Яго. От него все разработки во время подготовки к этой диверсии получал.
- Яго, - пожав плечами, усмехнулся Александр Сергеевич. - Даже Шекспира великого впутали в свое дело, негодяи.
- Как видишь, - согласился Павел. - Кто такой Шекспир, я с самого начала подпольной работы знаю. В театры в ту пору, разумеется, не ходил, но в одной камере с актером сидел, который этого самого Яго играл. Он мне и про Отелло рассказывал.
Глаза Александра Сергеевича внезапно наполнились тревогой. Его пальцы стали беспокойно шарить по зеленому сукну стола, наталкиваясь на множество разбросанных по нему предметов, пока не нащупали черный футляр. Вынув пенсне, он утвердил его на рыхлом носу, будто собирался для чего-то получше разглядеть брата, затем снял и подрагивающими пальцами возвратил на старое место.
- Павлуша,-промолвил он, волнуясь.-А второй встречи с этим самым трижды орденоносцем у тебя не было?
- С каким этим самым? С Прокопенко, что ли?
- Именно.
- Была, Саша, - произнес Павел уверенно и после длительной паузы прибавил: - Смутное дело получается, братишка. Два часа назад я опять лоб в лоб с ним повстречался. И снова в магазине, на этот раз в промтоварном. И опять он мне безумно напомнил того беляка, от пули которого погибла Лена. Но что я мог сделать? Посуди сам, весь город чтит этого человека. А я подойду, тресну вдруг его по физиономии и закричу: "Вяжите этого негодяя, он убил мою жену! Это врангелевский офицер!"? Но кто мне поверит? Надо ведь доказать! А у меня доказательств ровным счетом никаких. Мне же и дадут по шее за попытку скомпрометировать героя гражданской войны. Он мгновенно скажет, что бывают двойники в человеческом море и бывают ошибки ослабленной памяти, толкающие людей на неверные действия. И я останусь в дураках, да еще в каких.
Александр Сергеевич кивнул головой, будто соглашаясь с этими доводами брата, но вдруг произнес совсем иное.
- И все-таки, - сипло дыша, посоветовал он, - не будь благодушным, брат. Сообщи о своих предположениях должностному лицу, которому ты доверяешь, как собственной совести.
- Тому же Ловейко, - перебил его Павел Сергеевич. - Ты будто бы прочел мои мысли, Саша. Начну завтрашний день беседой с ним.
У парадного послышался шум подъехавшего "форда". Скрипнули тормоза, мотор фыркнул и смолк. Зато вся Аксайская огласилась восторженным визгом выпрыгивающих из автомобиля ребятишек. Четырежды прозвучал веселый мотивчик "Кукарачи". Очевидно, кто-то из детей, а скорее каждый по очереди, с разрешения шофера давил на клаксон.
Братья как по команде встали. Сутуловатый, дышавший с присвистом Александр Сергеевич снизу вверх взглянул па брата и невольно залюбовался его могучей грудью и широкими плечами, распирающими новый костюм, крутым подбородком и ясными глазами, в которых бушевало столько нерастраченной энергии.
- Ну, Пашка! - с завистью воскликнул он. - Эка красавец-то какой! - Женить бы тебя, подлеца, надо. Не век же тебе бобылем маяться. А на нашей казачьей земле красавиц, насколько я понимаю, и после гражданской войны не убавилось.
- Проработаем, - сверкнув зубами, ответил брат.
- Что проработаем? - растерялся Александр Сергеевич.
- Этот вопрос.
- Нечего сказать, шикарно,-возмутился младший Якушев. - Опять ты на диком жаргоне каком-то говоришь. Ты мне еще "Кирпичики" спой, градоначальник.
- В следующий раз, братишка, - пообещал Павел, - когда стаканчик рыковки выставишь. Да, кстати. Совсем упустил из виду. А как там этот самый Упырь поживает? В ставни камнями больше не бросается?
- Ох, я и забыл рассказать, - не сдержал смеха Александр Сергеевич. - Представляешь, что получилось. Утром я уже в техникум собирался, и вдруг звонок. Открываю дверь. Стоит на пороге этот самый Упырь в спецовке промасленной и туфлях парусиновых, давно потерявших первоначальный цвет. Щуплый, кожа да кости. Глаза еще мутные, но он уже в своей тарелке. "Здравствуйте". "Здравствуйте", - говорю. "Вы уж извините, товарищ, за вчерашнее мое поведение. Не в себе был после получки". Я в ответ: "Да что там, конечно, извиняю". Потоптался он на пороге, обернулся и говорит: "Ну и сильный же вы! Так поколотили, что голову до сих пор поднять не могу. Стороной теперь буду ваш дом обходить". Понимаешь, до того был пьян, что тебя за меня принял.
- Это хорошо, - улыбнулся Павел, - острастки больше будет иметь. Ну, прощай, Саша. Неделя до конца предстоит тяжелая, а на будущей машину мы с Ваней поставим в ремонт, и не взыщи, опять на Зяблике к тебе пожалую по старой кавалерийской привычке.
- И в этом бостоновом костюме?
- Зачем же, он у меня единственный. В форме своей разлюбимой прискачу. Как бывший командир РККА, не снятый еще с учета.
Он задержался у порога, потом неожиданно вернулся и поцеловал брата в щеку, как целовал давным-давно маленького, если следовало того успокоить, а отца не было дома.
В десятом часу утра в доме с каменной кукушкой над резной дверью раздался телефонный звонок. Николай Модестович Прокопенко в эту минуту снимал с острого лезвия бритвы мыльную пену, в которой тонули срезанные со смуглой щеки волоски.
- Василий! - закричал он своему стриженному под полубокс бывшему ординарцу, имевшему теперь документы па имя партизана гражданской войны Стеблева, плотно сбитому средних лет человеку с грубыми чертами лица, борцовской шеей и широким, как бы расплющенным носом. - Василий, а ну-ка узнай, кто там объявился по мою душу.
- Это из военкомата звонят, вас спрашивают.
- Скажи, сейчас подойду. - Прокопенко наскоро обтер лицо махровым полотенцем и в неподпоясанной расстегнутой гимнастерке двинулся в кабинет. У Николая Модестовича было пять таких одинаковых, с шиком пошитых гимнастерок, которые он предпочитал всякой другой одежде. Он нисколько не смущался при мысли, что посторонние могут подумать, будто он носит одну и ту же. Подмигивая верному Василию, он самодовольно восклицал:
- А знаешь, братец, истинный красный герой перекопских боев всегда должен отличаться скромностью.
- Да уж действительно, Николай Модестович, - соглашался в такие минуты бывший ординарец.
Войдя в кабинет, Николай Модестович спокойным движением руки взял телефонную трубку и голосом, полным внутреннего достоинства, ответил:
- Рад вас слышать, дорогой Петр Данилович. Да. Понимаю. К которому часу? Прекрасно. Ровно в полдень буду в вашей приемной. Для меня любое ваше пожелание приказ. Извините, люблю точность. Несносная черта характера. Не смогли бы вы сообщить цель приглашепия? Несколько уточнений, связанных с воинским учетом? Ну что же, бывший красный комэска всегда с удовольствием ответит на ваши вопросы.
- Что там такое, Николай Модестович? - спросил из другой комнаты Стеблев, которого настораживал любой тслефонный звонок.
Прокопенко презрительно бросил:
- А ты уже и сдрейфил, верный мой страж.
- Сдрейфил не сдрейфил, - хмуро ответил Василий, - но остерегаться надо.
- Стыдись! Мы же в мирном Новочеркасске, а не на Перекопском перешейке, где пули и снаряды ежеминутно пролетали над головой.
- На Перекопе было легше, - пробормотал бывший ординарец,- там сразу было видно, где свой, а где красный.
- Не опасайся. На этот раз ничего особенного. Надо очередные уточнения в карточку воинского учета внести.
В назначенный час Прокопенко открыл дверь кабинета. Ему навстречу из-за стола, заваленного стопками учетных комсоставских карточек, поднялся высокий сероглазый военком с двумя вишпевыми шпалами в петлицах.
- Рад приветствовать нашего дорогого героя! Как поживаете, достопочтенный Николай Модестович?
- Не могу пожаловаться, Петр Данилович. Под небом древнего казачьего Новочеркасска скромному ветерану живется весьма неплохо.
- Скорее старинного, чем древнего, - деликатно поправил военком.
- Вы меня действительно уличили, - любезно согласился Прокопенко.- Такой эпитет к нашему городу нельзя приложить. Чего доброго, Матвей Ивапович Платов мог бы оказаться в претензии. Он его основал чуть более века назад, а сто лет для города-это возраст старины, но не древности.
- Вы как всегда логичны, Николай Модестович, - похвалил его горвоенком. - Присаживайтесь.
Прокопенко смуглой рукой придвинул стул с красной мягкой обивкой.
- Я весь внимание.
- Мы упорядочиваем учетные карточки комсостава. Кажется, и вам на два-три вопроса надо будет ответить. А на какие, сейчас посмотрим. Дайте только найти вашу карточку. - Длинные пальцы горвоенкома стали ворошить стопку бумаг. - Протасенко, Прохоров, Прошляков, - бубнил себе иод нос Петр Дапилович. - Где же ваша запропастилась?
В эту минуту кто-то сильным рывком распахнул дверь и простуженным голосом развязно заявил с порога:
- Я к вам, гражданин военком. Сказали, карточку какую-то заполнить надо.
- Во-первых, не какую-то, а учетную,-сухо осадил вошедшего Петр Данилович, - а во-вторых, разве вы не видите, что я занят? Подождите.
- Да не могу я ждать! - взорвался вошедший. - Еле вырвался в пересменок, а опоздаю - весь кузнечный цех из-за меня в простое будет.
- Ничем не могу помочь, - прервал его горвоенком. - Садитесь и ждите.
Николай Модестович обернулся и увидел на пороге здоровенного детину в брезентовой спецовке. В руках тот нетерпеливо комкал клетчатую фуражку, ничего общего не имеющую с рабочим костюмом. Плечи у него были огромные, кулаки как кувалды, лицо грубое, обветренное. В глазах с красными прожилками застыло выражение неудовольствия и досады..
- Я-то посижу, а вот цех как? - забормотал он. - Эх, никогда вы не идете на уступки рабочему человеку.
Детина придвинул к себе скрипучий стул как раз в ту минуту, когда горвоенком обрадованно воскликнул:
- Вот она, Николай Модестович. Сейчас пройдемся по каждой графе и выясним, что надо. Имя, отчество, фамилия, год рождения есть. Участвовал ли в гражданской войне и на каких фронтах, тоже указано. Бог ты мой, тогда зачем же мы вас потревожили? Ах вот. Состав семьи. Ваша жена, простите?
- Прокопенко Мария Васильевна.
- Насколько помнится, она не с вами?
- Увы, Петр Данилович. Пропала без вести в гражданскую. - Прокопенко опустил черные глаза с большими белками и горько вздохнул. - Последнее письмо от нее я получил, когда мы стояли под Мелитополем, готовясь к штурму Перекопского перешейка. Еще сам Михаил Васильевич Фрунзе эскадроны наши перед наступлением на проклятого Врангеля объезжал. И весточка от нее, надо сказать, трагической была. Маша сообщала, что сын наш Володя от тифа скончался. Сама же она намерена была к родной тетке на Урал пробираться с Поволжья, чтобы от голода спастись. Удалось ли ей это, не зпаю. - Прокопенко закрыл ладонями лицо и с минуту молчал, не поднимая поникшей головы. Потом глубоко вздохнул. - Дорогой Петр Данилович, вы посыпали соль на мою незаживающую рану. - Николай Модестович отнял от лица руки и будто случайно оглянулся на сидевшего у двери мастерового. И, вздрогнув, отметил усмешку на его твердых сомкнутых губах. "Чего это он оскалился?" - злобно подумал про себя Прокопенко, ощущая неприятный холодок.
- Вы уж извините меня, - сказал участливо горвоенком, - я прекрасно понимаю ваше состояние. Война такова, что человек иной раз получает на ней раны не только в атаках, но и позднее... значительно позднее.
- Да, - горьким шепотом подтвердил Прокопенко. - И называются они раны души. Лучше Маши я никого не найду в этой жизни.
- Сочувствую вам, Николай Модестович, - закивал горвоенком. - Сейчас сделаю соответствующую запись в учетной карточке, и больше вас тревожить не станем. - И он протянул руку, прощаясь.
Уходя, за своей спиной Прокопенко услыхал изменившийся, посуровевший голос Петра Даниловича, обращенный к ожидающему приема мастеровому:
- А теперь давайте вы. Ну что за недисциплинированность, в приемной не могли обождать! Да и разговариваете каким тоном!..
Прокопенко так никогда и не узнал, что после того, как за ним плотно затворилась дверь, Петр Данилович подошел к дюжему парню в робе и тихо спросил:
- Кажется, мы все сделали правильно, товарищ Ловейко?
Возвратившись домой, Прокопенко прошел в кабинет, на ходу бросив Василию:
- Есть дело. Через полчаса зайдешь.
В минуты тоски и отчаяния, когда иной слабой душе уже мерещился конец света, он умел быстро пресекать в самом себе растерянность и находить выход из, казалось бы, самого безнадежного тупика. И если, ладонями сдавив виски и стиснув зубы, Прокопенко с опущенной головой сидел за письменным столом, это вовсе не означало, что он впал в отчаяние. Беспокойная мысль его металась до тех пор, пока не находила нужного решения.
Он думал сейчас о Якушеве и ни о ком больше. "Опознал он меня или нет, этот рослый суровый комиссар?" Как трудно было тогда в палатке вырвать руку из его железных, сомкнувшихся намертво пальцев. И если бы в отчаянии ие бросился комиссар к смертельно раненной медсестре, давно бы бесславно закончилась жизнь Николая Модестовича. Вероятно, вывел бы его красный конвой за расположение войск, прозвучала бы короткая команда: "По врагу революции - пли!" - и все.
А сейчас... Пусть погибла Россия бездарного Николая Второго, пусть стала прахом белая гвардия, он, Прокопенко, все-таки жив, способен отличать день от ночи, дышать свежим воздухом и даже более того - командовать целой группой таких же, как он сам, патриотов, гордо именуемой "Новочеркасским центром по борьбе с большевизмом", ходить по Московской с карманами, набитыми деньгами, приказывать другим. Так неужели же все это он должен теперь потерять и подставить свой лоб под пули лишь потому, что жизненный его путь способен оборвать этот человек, ставший ответственным работником горсовета?! "Узнал он меня при этих двух встречах или нет? - в бессчетный раз задавал себе один и тот же вопрос Прокопенко. - А впрочем, какая разница! Если не узнал при первой и остался неуверенным в своем предположении при второй встрече, то будет он искать третьей, и тогда Николаю Модестовичу, офицеру белой гвардии, от расплаты никуда не уйти. Ясно одно: им двоим в этом городе не жить. Кто-то один должен освободить место другому. "Пусть этим "кто-то" будет бывший комиссар красного кавалерийского полка Якушев, - думал ожесточенно Прокопенко. - Ведь нападающая сторона всегда имеет преимущество, если она при этом не потеряет времени. Одним словом, медлить нельзя. Нужен исполнитель".
Прокопенко дотянулся до тускло-серебряного колокольчика и решительно позвонил. Василий вошел сразу, будто стоял все это время за дверью.
- Звали, Николай Модестович?
- Звал.
- Я слушаю.
- Как ты полагаешь, мои шер, вернулся ли с базара домой выдающийся новочеркасский куплетист, король толкучки Артемий Иннокентьевич Моргунов?
- Полагаю, не только вернулся, но уже давно находится в состоянии подпития, в которое ежедневно сам себя ввергает.
- Так вот, Василий, - распорядился Николай Модестович, - сервируй в этом кабинете столик на двоих. Французский коньяк из неприкосновенных наших запасов, балык, икра, лучшая колбаса и лимоны. Словом, чтобы все было как положено. А потом с обычными предосторожностями приведи сюда есаула Моргунова.
- Слушаюсь, - ответил верный слуга.
- А я за рояль, - вздохнул Николай Модестович. - Спасибо, что хоть эта привилегия у дворянина Прокопенко еще не отнята Советской властью.
И пока верный ординарец вносил в кабинет бутылки, бокалы и закуски, в зале с камином звучала музыка и раскатывался не очень веселый баритон Николая Модестовича:
Встретились мы в баре ресторана, Как знакомы мне твои черты. Где же ты теперь, моя Татьяна, Моя любовь и наши прежние мечты? Упали косы, душистые, густые... Свою головку ты склонила мне на грудь...
Бывший есаул Артемий Иннокентьевич Моргунов прибыл в сумерках, подавленный и уже обо всем догадавшийся. Молча сел за накрытый столик, жадно осушил две рюмки коньяку подряд, закусил бутербродом с икрой.
- Настало время действовать, Николай Модестович? - спросил он хмуро.
- Настало, - сухо подтвердил Прокопенко. - Он стал крайне опасен. Короче говоря, более серьезной угрозы для нас еще не было. Либо он, либо мы. Полагаю, лучше мы.
Прокопенко достал из письменного стола план города и продолжал:
- Вот улица, по которой он ездит в гости к родному брату. Сейчас его служебный автомобиль поставлен на ремонт. В понедельник после партийного актива он наверняка решит проведать брата. Вероятно, воспользуется лошадью. Вот здесь, на перекрестке, будет уже в темноте не раньше девяти-десяти вечера. Стрелять надо в упор. У вас какое оружие?
- Браунинг.
- Не подойдет, - возразил Прокопепко. - Возьмите вот этот... надежнее. - Он выдвинул ящик письменного стола, достал из него завернутый в вышитую салфетку кольт и вручил есаулу. - А теперь, Артемий Иннокентьевич, садитесь ближе и обсудим вашу благородную акцию со всеми деталями. Но перед этим еще раз, по русскому обычаю...
Прения были бурными, и партийный актив закончился в начале девятого. Пока руководители городских предприятий и секретари партячеек, зайдя в кабинет Якушева, дополнительно уточняли многие вопросы, время и вовсе перевалило за девять. За большими окнами атаманского дворца порядком стемнело. После долгого дождя уличные фонари с трудом пробивали белесую мглу, распластавшуюся над городом.
Павел Сергеевич вспомнил о том, что в это время обещал быть у брата, и огорченно подумал: "Что же делать? Автомобиль на ремонте, но Зяблик в ремонте не нуждается. Сегодня он не в конюшне артполка, к которому приписан, а смирно дожидается у коновязи в маленьком дворике горсовета. К тому же я на партийном активе сидел за столом президиума не в штатском, а в военной форме, потому что основным вопросом в повестке дня было состояние шефства над Красной Армией и Красным Флотом".
Вот и сейчас это оказалось кстати. В штатском было не слишком удобно скакать по Новочеркасску на коне ему, ответственному работнику горсовета, которого многие знали уже в лицо, а в военной одежде - сам бог велел. И он мысленно принял твердое решение: "Поеду".
Зяблик неохотно ступал по скользким плитам мостовой. Беспокойные мысли, навеянные минувшим днем, постепенно улеглись в разгоряченной голове Якушева. Он вспомнил, что хотел просить присутствующего на активе председателя крайисполкома отложить снос памятника Платову, пока не решат, на какую площадь или улицу знаменитая скульптура Клодта будет перенесена. "Не примут второе решение, не стану выполнять и первое", - подумал он сердито и с неожиданной неприязнью вспомнил, как на заседании крайисполкома один из его работников, Виринг, обрушился на него с гневной речью, утверждая, что именно Якушев, исполняющий обязанности председателя новочеркасского горсовета, саботирует решение о сносе памятника графу и атаману. Он так и выразился: не о переносе, а о сносе, и стал азартно выкрикивать, что пора бы в партийном порядке строго наказывать поборников казачьей старины. "Казак казаку рознь, - смело возразил тогда Якушев. - Вам это трудно понять, товарищ Виринг, потому что вы в эсерах пребывали, когда надо было русскую историю изучать. Ермак, Пугачев да Стенька Разин тоже донскими казаками были. Да и таким нашим предком, как основатель города Новочеркасска Платов, тоже гордиться можно. У товарища Виринга есть все основания и на меня обрушиться, потому что я внук донского казака, служившего в Отечественную войну восемьсот двенадцатого года под знаменами Платова. Но только должен прибавить, что не знаю, где был товарищ Виринг в гражданку, а что касается меня, то я ни деникинским, ни врангелевским пулям не кланялся".
Перепалка продолжала разгораться до тех пор, пока не встал секретарь крайкома и не прикрикнул:
- Ну чего сцепились, как кочеты! Товарищ Якушев нрав. Надо и к старым традициям относиться с уважением. А то некоторые заладили одно и то же: граф, граф. Суворов и Кутузов тоже имели по графскому титулу. А разве родинанаша и ее история от того пострадали? Так что и вам об этом не надо забывать, товарищ Виринг.
"Обязательно буду настаивать на своем, - подумал Якушев, легко трогая повод. - А упрямства мне, кажется, не занимать".
Зяблик свернул с Платовского проспекта на Барочную. Освещения здесь никакого не было, улица тонула в заполнившем ее в этот вечер густом тумане. Павел Сергеевич вспомнил, что в хорошие теплые вечера здесь почти у каждого дворика сидели на лавочках либо влюбленные парочки, либо старики и старухи, а у белого углового домика, мимо которого сейчас проносил его конь, всегда в это время торчал малость подвыпивший дедок и заунывным голосом пел старинные диковатые походные казачьи песни, так не вязавшиеся ни с блатными "Кирпичиками", ни с "Муркой", ни с романсами Вертинского и Лещенко.
Однако в этот туманный, пропитанный моросью час не было ни влюбленных парочек, ни старух, выходивших на посиделки, ни древнего деда. Улица выглядела пустынной, лишь сквозь ставни пробивался желтый, словно разбавленный, свет керосиновых ламп. Даже из психобольницы не доносились возбужденные голоса ее обитателей. Можно было подумать, что вся Барочная улица погрузилась в глубокий сон без времени и границ. Ни одного звука, кроме стука копыт, глухо разносившегося в тишине. Павел Сергеевич не понукал коня, уверенный, что Зяблик, знающий этот путь, и без того никогда не собьется.
Чуть пониже психиатрической больницы Барочная выгибалась верблюжьим горбом, а дальше, на скрещении с Кавказской, резко уходила вниз корявым, с выбоинами и рытвинами, спуском.
Туман бесплотной гущиной все теснее и теснее обволакивал всадника и копя, и уже совсем ничего ни впереди, ни позади не было видно. Внезапно к стуку копыт по осклизлым булыжникам примешался какой-то посторонний не то звук, не то шорох, и вдруг у самой конской морды из тумана вынырнула высокая человеческая фигура.
- Товарищ, - прозвучал хриплый голос, - спичек, случаем, не найдется?
- Отчего же, - добродушно ответил Якушев, удивляясь, что кому-то в этот поздний вечер понадобилось еще и закурить. Он чуть-чуть натянул повод, шаря в глубоком кармане галифе, и в это мгновение яркая вспышка ударила по глазам, грохот выстрела оглушил его. Павел Сергеевич ощутил сильный удар в грудь, и отчаянная мысль сверкнула в сознании: "Он же в меня стреляет. Надо выхватить браунинг..." Он сунул руку в другой карман, но она стала слабеть, а вместо браунинга на мостовую выпал тугой бумажник. И в эту секунду второй выстрел расколол тишину новочеркасской окраины. Павел Сергеевич глухо застонал и навалился простреленной грудью на спину коня. Топота убегающего бандита он уже не слышал.
Александру Сергеевичу было в этот вечер не по себе, и, не дождавшись брата, он прилег в большой комнате на кровать. Астма его пощадила; выпив чаю с сухой малиной и подавив в себе легкий озноб, он, не раздеваясь, накрылся сверху одеялом и кратко предписал жене:
- Когда Павлик появится, разбуди меня немедленно, Наденька.
- Да не придет он уже, наверное, - вздохнула Надежда Яковлевна. - Погода стоит - зги не видать.
Она задула в лампе огонь и ушла к детям на кухню, где на горячей плите уютно попискивал чайник. Сон уже успел крепко сковать обессиленное тело Александра Сергеевича, когда жена стала трясти его за плечо.
- Саша, проснись, - раздался ее встревоженный шепот, - неладно у нас.
- А? Что? - невнятно пробормотал Александр Сергеевич.
- Кто-то скребется у парадного и стучит в дверь... лошадь, по-моему.
Сдерживая подступивший кашель, Александр Сергеевич ринулся в кабинет, загнал патрон с жаканом в ствол берданки и оцепенело замер посреди комнаты, а жена требовательно продолжала:
- По-моему, это лошадь. Иди посмотри, откуда она в такую поздноту взялась. Ты слышишь, как она тревожно ржет?
- А если это бандиты?-произнес Александр Сергеевич ту самую фразу, которую в подобном случае произнес бы каждый домохозяин на окраине.
- Стыдись! - презрительно выпалила жена. - Слишком уж ты смерти боишься.
- Не своей, Надюша, - шепотом оправдывался он, - твоей да их. - И он кивнул на вбежавших в комнату перепуганных мальчишек.
- Отдай ружье!-гневно перебила Надежда Яковлевна.
- Надюша, да ты что... я сам, - осмелевшим голосом сказал Александр Сергеевич и решительно шагнул в холодный от сырости коридор. Звякнул сброшенный с петель тяжелый засов, послышался скрип окованной железом двери и его отчаянный, полный ужаса голос:
- Павлик... родной... убили!
Когда Надежда Яковлевна в легком ситцевом халатике выскочила на улицу, она увидела в сырой туманной мгле забрызганную кровью гриву коня и припавшее к луке седла безвольное тело. Голова Павла Сергеевича свисала вниз, густые русые волосы были мокрыми от туманной мороси, и только сильные руки, сомкнутые в предсмертной муке, удерживали его в седле. Прислонив к стене совершенно ненужное сейчас ружье, Александр Сергеевич распорядился:
- Надюша, Гришутка, Веня... помогите внести его в дом. Тазик с водой и марлю.
С немалым трудом разняв руки брата, он взвалил его на плечи, при поддержке жены и детей внес в теплую кухпю и осторожно опустил на кровать.
- Гриша, Веня! - закричал он сыновьям. - Бегите, сынки, в нашу больницу, найдите главного врача Николая Григорьевича Водорезова, скажите, чтобы шел незамедлительно. Он старый наш друг, в беде не покинет.
- Да что ты, Саша! - гневно перебила Надежда Яковлевна, с трудом попадая в рукава плаща. - Куда ты детей погнать хотел неразумных? Сама я...
Очевидно, внося брата в дом, он все-таки причинил ему боль, потому что, когда Надежда Яковлевна захлопнула за собой дверь, Павел Сергеевич раскрыл глаза.
- Не надо, - произнес он сквозь кашель слабым, хриплым голосом. - Он стрелял два раза... Опоздали, ребята, кажется, я ухожу... - Потом жестом попросил всех приблизиться. На бескровных губах Павла Сергеевича вспыхнула и погасла бледная улыбка, и он перешел на неясный шепот.- Гришатка, Веня,-продолжал он хрипло,-будьте большевиками... Пусть ваш отец не кряхтит... лучшей веры у нас всех нет и не будет...
Он замолчал. Из полуоткрытого рта вырвалось сиплое дыхание, губы сомкнулись.
Когда через четверть часа Надежда Яковлевна возвратилась вместе с запыхавшимся от быстрой ходьбы долговязым человеком в белом халате, Александр Сергеевич даже не пошевелился. Главный врач расстегнул пропитанную кровью кавалерийскую гимнастерку Павла, послушал его, потом поднял плетью свисавшую тяжелую руку и соединил на груди с другой. Не глядя на Александра Сергеевича, промолвил:
- Саша, возьми себя в руки. Я уже тут не нужен. Большевик Якушев скончался.
И вышел.
Всю ночь Александр Сергеевич, облаченный в черный сюртук, просидел не смыкая глаз у тела, брата, а Надежда Яковлевна вздыхала в соседней комнате, не рискуя мешать этому их последнему свиданию. Александр Сергеевич гладил мягкие волосы брата. Глаза его были совершенно сухими, а голос безысходно печальным, когда он тихо, будто только себе, повторял одни и те же слова: "Эх, Павлик, Павлик! Да как же все это случилось?.. Вот и остались мы на земле без тебя, дорогой... Все в жизни поправимо, непоправима одна лишь смерть".
Едва забрезжил рассвет, у парадного затормозила машина. Хлопнула дверца. Надежда Яковлевна поспешила в коридор и вернулась с двумя незнакомцами. Один из них - небольшого роста с черными цепкими глазами - протянул широкую, твердую ладонь и коротко сказал:
- Секретарь горкома партии Бородин. Зовите просто Тимофеем Поликарповичем.
Второй, огромного роста, в распахнутой кожанке, выдавил простуженным басом одно слово:
- Ловейко.
И, несмотря на придавившее его горе, Александр Сергеевич взглянул на него и подумал: "Так вот он какой, руководитель новочеркасских чекистов. Действительно, лучше всякого тореодора кулаком быка сразить может".
Постояв в изголовье покойного, секретарь горкома обнял Александра Сергеевича.
- Дорогой вы наш, - сказал он глухим голосом, - уже ничего, к сожалению, не изменить. Мы приехали, чтобы выразить вам и вашей семье сочувствие, если оно хоть как-то сможет ослабить вашу безраздельную скорбь. Да разве ее ослабишь? Мы одно только можем сделать: рассчитаться с врагами революции за нашего Пашу. Это вот от него в первую голову зависит, - кивнул он на своего спутника.
- Будьте спокойны, - пробасил Ловейко. - Не пройдет и недели, как я разнесу их осиное гнездо. Мои хлопцы уже вовсю работают. Ни дохлому, ни живому гаду пощады не дадим.
У Александра Сергеевича дрожали руки. Боясь расплакаться, он поспешно достал из кармана пенсне и утвердил его на рыхлом своем носу. Неожиданные гости отметили этот жест и горько вздохнули.
- Теперь... - задрожавшим голосом проговорил хозяин дома, - теперь последние почести остались. Вот гроб закажем... обрядим...
- Об этом не беспокойтесь, - перебил его Тимофей По-ликарпович. - Это уже наши заботы. Похороны собираемся назначить на завтра, если вы, разумеется, не станете возражать. - Лысая голова Александра Сергеевича поникла, и это было принято как знак согласия. - Мы бы даже могли сегодня забрать Павла, выставить гроб в зале заседаний.
- Нет, нет, - решительно запротестовал Александр Сергеевич и замахал руками, - оставьте брата у нас. Пусть он последнюю ночь проведет с нами вместе.
- Хорошо, - согласился секретарь горкома. - А завтра утром гроб с его телом будет выставлен в городском ДКА. Многие с Пашей захотят проститься. - И оба гостя направились к выходу.
Александр Сергеевич со скрипом поднял железный засов, распахнул дверь. На пороге из толстого выщербленного камня-ракушечника его руку стиснула холодная, чуть потная рука Тимофея Поликарповича.
- Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, в партию бы вам надо. Вот и Павел покойный об этом говорил, - сказал Бородин.
- Да где уж там! Какой большевик из меня, если квартала не пройду без того, чтобы не закашляться.
- Жаль, - огорченно вымолвил Тимофей Поликарпович. - Отзывы хорошие о вас идут. И от студентов, и от педагогов.
- Ошибаются, преувеличивают, - вздохнул Александр Сергеевич.
- Нет, - возразил секретарь горкома. - Если масса утверждает, преувеличения быть не может.
Они распрощались, и легковой "форд" умчался, стрельнув сизым удушливым дымком отработанного бензина.
К обеду красноармейцы привезли гроб, обрядили в гимнастерку с боевыми орденами и галифе холодное тело Павла. В ту пору еще не было средств, позволяющих долго сохранять покойника, и брата перенесли в самый затемненный, прохладный угол большой комнаты. Соседская баба Нюша, снабжавшая на Аксайской несколько домов козьим молоком, шестидесятилетняя рябоватая вдова столяра, принесла мешок с только что нарванной пахучей донской травой, усеяла чисто вымытый пол кустиками седой полыни, мяты и чебреца. Всю ночь то Александр Сергеевич, то его жена посменно сидели у гроба, а утром, едва лишь вислогубый пастух Филька прогнал за реку общественное стадо, парадную дверь распахнули настежь. Приходили соседи по Аксайской и Барочной, знавшие и не знавшие Павла Сергеевича мужчины, женщины, дети. В скорбном молчании останавливались у гроба и, не сказав ни слова, покидали дом. Какая-то немолодая уже женщина в черном траурном платке долго просидела в углу, вытирая слезы, тихо приговаривая:
- Да как же! Сына... сына он мне вернул, почитай, с того света. На Перекопе с поля боя тяжелораненого вынес...
Приехала машина с красноармейцами из Персиановских лагерей, из полка, которым командовал Павел Сергеевич: у них, к сожалению, не было возможности всем проводить его на кладбище, потому что воинская служба такова, что одни из них готовились к заступлению на пост, другие в наряды. Потом к дому подъехало несколько легковых и одна грузовая машина. Никогда еще за всю историю Аксайской улицы столько машин не подъезжало одновременно к одному дому. Ржаво взвизгнули петли, когда открывали борт грузовика, чтобы осторожно положить в кузов обитый кумачовой материей гроб.
- Веню на кладбище возьмем? - нерешительно произнес Александр Сергеевич, обращаясь к жене.-Мал еще...- Но жена строго сверкнула на него глазами, и вопрос был решен.
Хоронил Павла Сергеевича Якушева весь город. По широкой Московской улице медленно тянулась похоронная процессия. Из переулков и дворов к ней примыкали все новые и новые люди. Над городом, крепчая в своей угрюмости, разносились звуки похоронного марша "Вы жертвою пали в борьбе роковой".
Потом машины остались у ограды кладбища, а огромная человеческая колонна хлынула к разверстой могиле, рядом с которой возвышалась груда влажного коричневого суглина. Венька и Гриша, ни на шаг не отстававшие от отца и матери, шли в первом ряду, и Гриша, не сводя глаз со спокойного, умиротворенного лица Павла Сергеевича, приказным тоном шепнул младшему брату:
- Ты, Венька, не смотри на него.
- Это почему? - удивился младший.
- А потому, что он потом тебе приснится, а ты мертвых боишься.
- Вот еще! - взорвался Веня. - Да откуда ты взял?
- А помнишь, гроб с покойником по Аксайской провозили. Ты его увидел и потом целую ночь не спал.
Родители на них зашикали, и ребята умолкли. А с деревянного, наспех сколоченного помоста приземистый человек уже говорил надгробную речь, и к ней примешивался плач людей, стоявших у вырытой могилы. Общего смысла Венька не понял, но он тоже готов был заплакать, потому что знал, что доброго, сильного дядю Пашу сейчас забросают землей. Лишь одна фраза вывела его из равновесия, когда выступавший, потрясая сжатыми кулаками, воскликнул:
- Классовые враги вырвали из наших рядов несгибаемого большевика. Но мы им ответим на это красным террором!
- Гриша, - не к месту спросил Венька, - а кто это такие - классовые враги?
- Тише ты, - сердито зашептал брат и дернул его за локоть, не в силах сразу найти слова для ответа.
Речь кончилась, и в наступившей тишине послышались удары молотков: могильщики забивали крышку. Потом гроб опустили на холодное дно вырытой ямы, и люди стали бросать на него землю. Венька и Гриша подошли ближе и тоже бросили по горсти. На глазах у всех гроб с дядей Павом исчезал под этой землей, и исчезал навечно. Веня поднял голову, увидел, как сотрясается от рыданий отец, а мать платком вытирает лицо. Он вздрогнул, когда над кладбищенскими крестами и памятниками сухо затрещали залпы ружейного салюта. Венька посмотрел на суровые лица красноармейцев и подумал: "А ведь им не больно, когда приклад отдает в плечо". Потом военный оркестр заиграл "Вставай, проклятьем заклейменный"... Все было кончено.
Над городом, над побуревшей от зноя степью и головами людей стояло голубое, почти безоблачное небо. Медленно передвигались по нему облака с розоватыми от дневного света подпалинками. Все было на земле, как и всегда, но Павла Якушева среди тех, кто шагал по ней, уже не было.
Пальцы дрожали и не попадала на клавиши, то и дело уродуя мотив. Гармонист попробовал было запеть "Варяга", но безнадежно захрипел и умолк. Кто-то в первом ряду осуждающе выкрикнул:
- Эх, дядя Тема! Ничего у тебя не получается сегодня. Небось перебрал накануне, вот и околесицу несешь. Шел бы проспался...
Толпа, собравшаяся послушать популярного на толкучке куплетиста, стала разочарованно разбредаться. Дядя Тема угрюмо перекинул через плечо тяжелый баян, поправил ремень и разбитным шагом направился в сторону голубого фанерного павильона. Там он взял две кружки пива и стакан водки, а ко всему этому три огромных, еще теплых рака и кусок хлеба с салом. Зубы бились о стеклянный край граненого стакана, но после выпитого стало полегче, и он зашагал домой, ожесточенно думая по пути: "А ведь если повторить, полегчает. Надо обязательно повторить".
Бабка Глафира, увидев его по возвращении, мрачно покачала головой:
- Хорош, батюшка! Еще п одиннадцати утра нет, а ты уже готов.
- Не рассуждать, - пробормотал Артемий Иннокентьевич. - Вот тебе гроши, тащи две бутылки водки и жбан пива.
Седая голова хозяйки пришла в движение.
- И-и, да куда ж тебе, 'сокол мой туманный, две бутылки! И одною обойдешься, милый... - Однако деньги она взяла в расчете, что рубля полтора у нее останется чистой прибыли, и в ближайшую лавку пошла. Когда она возвратилась, Артемий Иннокентьевич потребовал на стол бутылку, луковицу и кусок черного хлеба. Трясущимися руками наливал он водку, расплескивая ее по столу, ломал хлеб, подносил стакан к губам, и зубы клацали о его края. Бабка Глафира качала головой, вздыхая, причитала:
- Ой, что-то не в себе ты, Артемий Иннокентьевич. Который день глаз с тебя не свожу, а удивление не проходит. Всей своей персоной не в себе.
- Молчи, старая! - рявкал на нее постоялец. - Лучше выпей два шкалика для порядка.
Бабка Глафира с удовольствием исполнила его просьбу. Ее сморщенный носик заалел, глаза подобрели. Артемий Иннокентьевич осушил еще один стакан и вновь послал старуху в лавочку за колбасой и водкой. Пока она ходила, он сидел, страшно выпучив глаза, и бормотал:
- Шатало-мотало, пыр-тыр восемь дыр... Отвяжись, проклятый комиссар, не наводись ни днем, ни ночью.
Чувствуя сильный приступ надвигающейся тошноты, бывший есаул поплелся в сортир. Над зловонной выгребной ямой высилась остроконечная халабуда. На деревянные жерди была натянута драная попона, тысячи раз вымытая дождями и высушенная солнцем. Освободившись от пищи, Артемий Иннокентьевич обратил внимание на выпавший из кармана бумажник. Он его поднял, раскрыл и с каким-то остервенением стал кидать прямо на тонкие доски отхожего места замасленные рубли, зеленое комсоставское удостоверение личности, какие-то пропуска. Теряя над собой контроль, бубнил при этом, вращая помутневшими глазами:
- Черт поехал, черт пошел, три копеечки нашел... Сел он на велосипед и уехал на тот свет.
Когда Глафира возвратилась из лавочки, ее буйный квартирант, издавая дикий храп, спал на своей жесткой кровати.
Поставив поллитровку на стол, бабка поплелась в отхожее место справить нужду. На полу валялась затоптанная раскрытая книжка. Она, кряхтя, нагнулась и подняла ее. Не обратив особого внимания на фотографию, бабка по складам прочитала четко выведенные слова: "Фамилия: Якушев. Имя: Павел. Отчество: Сергеевич. Занимаемая должность: командир кавалерийского полка". Она побелела и отчаянно закрестилась:
- Господи боже мой, прости меня, грешную. Так вот какого душегуба приютила я в своем домике. Господи...
Бабка Глафира еще раз испуганно перекрестилась и, оглядываясь, не выйдет ли пьяный квартирант, быстрыми шагами заспешила в милицию...
Николай Модестович проснулся довольно поздно, когда солнечные лучи уже пробивались в его особняк сквозь яркую зеленую листву пирамидальных тополей. В эти беспокойные дни он ночевал в кабинете на диване. На тумбочке лежал серебряный колокольчик на тот случай, чтобы можно было вызвать Василия. Прокопенко сначала до хруста потянулся, ощущая силу во всем теле, но вдруг весь обмяк и вяло сел на диван. Так бывает с человеком, если неожиданное воспоминание об опасности мгновенно рушит бодрое настроение, порожденное пробуждением. "Опасность, - подумал Прокопенко с горьким откровением. - А не слишком ли я преувеличиваю ее значение? Может, пошумят-пошумят да и забудут об этом убийстве? По законам их марксистской диалектики все течет, все изменяется. Старое обновляется, а потом навсегда становится историей. - Он взял со стола номер городской газеты с некрологом, который хранил со дня похорон Павла Сергеевича Якушева, вгляделся в строгое, с правильными чертами лицо в траурной рамке, вновь прочел текст и безнадежно вздохнул: - Нет, иллюзии в сторону. Будут искать. Долго и настойчиво, и никогда не уймутся. Надо покидать гнездо, оставлять милый сердцу Новочеркасск, великолепный особняк с кукушкой над входом. Рвать когти, как выражаются теперь босяки на всех ординарных "малинах".
Вошел мрачный, заспанный Василий, от которого уже пахло спиртным. Вошел без стука, чего никогда пе делал раньше. "Как же я низко пал в его глазах, если он позволяет такую вольность, - подумал Прокопенко, но тотчас же подавил раздражение. - Зачем гнев? Гнев - это начало безумия. А мне сейчас надо быть хладнокровным". Прокопенко вздохнул и ничего не сказал.
- Завтрак подавать? - хмуро осведомился Василий,
- А что там у тебя сотворилось?-с наигранной беспечностью спросил Прокопенко.
- Бифштекс с картофелем и кофий с гренками.
- Устриц, разумеется, нет? - попробовал настроить его на добрый лад хозяин. Но Василий, не отвечая на остроту, потоптался на пороге кабинета и спросил:
- Что же это теперь будет, ваше благородие? Вроде как в кольце мы оказались.
- В окружении, - поправил Прокопенко и зашлепал босыми ногами к письменному столу, заваленному книгами и газетами. - Да-да, - повторил он. - В окружении, из которого пора уже вырываться. Но вырываться не сразу, не в панике, а с умом. Разве ты не помнишь, Василий, как мы выходили с тобой из окружения в Крыму под самым носом у Фрунзе, этого очень талантливого большевика, да и военного начальника незаурядного? А что такое прорыв? Надо нащупать в обороне противника наиболее слабое звено и так ударить, - Прокопенко сжал жилистый смуглый кулак и поднес его к лицу Василия, - так ударить, чтобы сразу разорвались в ней слабые звенья, и всеми силами устремиться вперед, к спасению, к жизни! Ведь таким вот образом уходили мы с тобой от гибели в критические минуты прошлого, и, как видишь, живы и невредимы.
- Так точно, ваше благородие, - чуть приободрился бывший ординарец.
- Вот и теперь уйдем, если понадобится, - начиная одеваться, подтвердил Прокопенко. - Три ордена Красного Знамени на моей гимнастерке еще сослужат нам службу. Так что не вешай, казак, раньше времени голову. - Прокопенко потянулся, расправляя па груди гимнастерку. - Однако знаешь что? Следует быть готовым и к тому, чтобы покинуть эту обитель. Хотя пока я не вижу такой необходимости. Тревожные тучи судьбы нас еще не обложили.
- Ой, ваше благородие, Николай Модестович! А по-моему, нам сейчас в самую пору так бежать, чтобы только пятки сверкали.
Прокопенко, потягиваясь, рассмеялся:
- Повремени, мон шер Василий. Надо всегда учитывать реальные обстоятельства. "За" и "против", как любят говорить большевики. Начну с "за". Со дня похорон прошла педеля, и ни в одном телефонном звонке, ни в одном разговоре с представителями городских властей я не заподозрил для себя ничего опасного. Пройдет месяц, и убийство будет отнесено к числу уголовных. А сейчас завтракать. И никаких расспросов.
- Нет, один вопрос все-таки будет, - с угрюмой решительностью сказал Василий.
- Один задавай, - усмехнулся Прокопенко. - Но только один.
- А как же с нашим Артемием Иннокентьевичем? С гармонистом "дядей Темой"? Ведь я по вашему велению ходил и на его местожительство, и на базар, где он частушки распевать под гармонь изволит, и нигде его не обнаружил. А хозяйку расспрашивать остерегся, как вы и приказывали.
- Да. Приказывал, - кивнул Прокопенко, для которого эти слова Василия были солью на рану. - И ты правильно поступил, дорогой мой друг. Не исключено, что наш есаул завалился к каким-нибудь мамзелям по пьяному делу. А хозяйку его расспрашивать ни о чем не надо было. Осторожность при обороне - одно из вернейших условий. И спасибо тебе, что его исполнил. - Николай Модестович помолчал, ладонью всколыхнул вьющиеся черные волосы. "Что ему сказать? - думал он напряженно.-Что я и сам не меньше его обеспокоен исчезновением Артемия Иннокентьевича? Но это означает ввергнуть в паническое состояние, может быть, самого последнего своего помощника".
В нужные моменты Прокопенко всегда мог собраться с мыслями, подавляя в себе самое сильное отчаяние. Он похлопал Василия по плечу и обнажил в улыбке крупные белые зубы, став на мгновение похожим на батьку Махно, каким изображали того на газетных карикатурах.
- А ты знаешь, мон шер, что мне предлагают выступить на сессии нашего горсовета со своими размышлениями о деятельности нашего Осоавиахима?
- Это перед самыми главными ответработниками Новочеркасска? - ахнул Василий.
- Вот именно, - подтвердил Прокопенко.
- Ну и чародей же вы, ваше благородие. Если так, то мы еще живем и есть, стало быть, порох в пороховницах.
- Даже не в пороховницах, а в пороховом погребе.
- Умывайтесь тогда поскорее и за стол, пока бифштекс горяченький, - заторопил Василий.
Если бы верный ординарец был прозорливее, он бы удивился тому, что его начальник направился в ванную не голым по пояс, как обычно, чтобы получше поплескаться, а в неподпоясанной гимнастерке и лишь ополоснул лицо, не в силах смыть с него растерянность и даже страх.
Прокопенко вяло вытерся полотенцем, вяло позавтракал и тотчас же удалился в гостиную и сел за рояль. Давно уже не заползало к нему в душу такое подавляющее, липкое отчаяние. "Ищут. Всю агентуру свою спустили, - думал он напряженно, - а есаула все нет и нет. Значит, что-то случилось. Не мог же он просто так, ради запоя, пропасть после своих выстрелов. Значит, бродит возле стен особняка, облицованного светло-голубым кафелем, беда, и не может меня никто о ней предупредить".
Он достал ноты н укрепил их над клавиатурой. Никогда еще с такой острой печалью не играл он полонез Огинского "Прощание с родиной". Грустный, тоскующий мотив вырывался в окно, и твердо знал Прокопенко, что ни один из новочеркасских интеллигентов не пройдет сейчас мимо его дома без того, чтобы не остановиться, не заслушаться и не сказать про себя: "Ах, до чего же тонко и вдохновенно исполняет Огинского этот красный командир с тремя орденами на гимнастерке".
А Прокопенко после заключительных аккордов откинул назад голову и, закрыв на мгновение глаза, тоскливо думал: "Как великолепно польский граф Огинский, сражавшийся под знаменами Костюшко, назвал свое сочинение. А я! С какой родиной я прощаюсь? Моей родины пет, она погибла еще в семнадцатом, после штурма этой чернью Зимнего дворца. Есть города и села, где меня немедленно назовут классовым врагом, узнав подлинное имя и фамилию, потому что был я самым что ни на есть верным исполнителем приказов барона Врангеля. Это я пытал, вешал и расстреливал красноармейцев и большевиков, командовал карательными экспедициями. Но нигде нет теперь даже клочка земли, где бы меня, русского дворянина в прошлом, приняли бы как сына. Нет и не будет больше у меня той родины, что дала мне жизнь и карьеру белого офицера. Она утонула еще там, в Сиваше, сгорела навечно в огне перекопских боев, и, если я буду расстрелян в подвалах ЧК, едва ли найдется человек, который поставит крест на моей могиле. Зачем центр запретил мне бежать из Новочеркасска и согласился с планом убийства этого совдеповца Якушева? Пули Артемия Иннокентьевича навечно заставили замолчать единственного свидетеля, но не была ли то Пиррова победа?"
В кабинете зазвонил телефон, и Василий снял трубку:
- Да, он дома. Сейчас позову. Вас просят, Николай Модестович.
Прокопенко мягкими быстрыми шагами подошел к письменному столу.
- Да, это я. - И весь подобрался, услыхав на другом конце провода голос горвоенкома. Однако несколько секунд спустя тревога в его голосе сменилась спокойствием. - О чем речь, мой дорогой, - фамильярно раскатился его баритон, - о чем речь! Я, к сожалению, пока беспартийный, но любое пожелание или предложение городских руководителей для меня непреложно, как закон. А выступить перед допризывниками, этими великолепными парнями, идущими в Красную Армию, такая радость. Ведь есть и мне о чем рассказать - герою гражданской войны. Как скакали всадники и как сверкали клинки над сухой полынной землей Перекопского перешейка, если говорить образно. А как мы, по колено в воде, под пулями и бомбами с "фарманов" через ледяной Сиваш переходили! Поверьте, дорогой Петр Данилович, это будет небезынтересно для тех, кто готовится занять наше место в боевом строю. Что? В три часа дня надо обсудить план моего выступления перед допризывниками в вашем кабинете? Можете не сомневаться, буду минута в минуту. - Рука у Прокопенко была уже твердой и не вздрагивала, когда он клал трубку на рычаг. Василий стоял за его спиной с напряженным лицом человека, не утратившего страха.
- Есть новости, ваше благородие?
- Как видишь, на Шипке все спокойно, и солдата, занесенного на посту снегом, нет. Горвоенком потребовал, чтобы я завтра выступил перед эшелоном новобранцев и рассказал о том, как мы с тобой на Перекопском, перешейке кровавого негодяя барона Врангеля...
- Гы... - осклабился Василий.
- Что "гы"! - передразнил его Прокопенко. - Видишь, какое доверие нам, а ты тыкаешь. Всю жизнь пытаюсь научить тебя выражать свои мысли по-человечески, да так и не научу, видимо. Почисть-ка мои ордена, чтобы блестели, как надо. Ведь и от этого, от доброй улыбки, от покорного взгляда, словом, от всего зависит теперь судьба наша сиротская. Не так ли?
- Так точно, - вздохнул его верный ординарец.
Когда Прокопенко, весь начищенный старательным Василием от каблуков сапог до сверкающих боевых орденов, тщательно выбритый и в меру надушенный дорогим французским одеколоном, вошел в приемную горвоенкома, там сидел всего один человек, молоденький помкомвзвода с кавалерийскими петлицами на гимнастерке. Он поднял стриженную под машинку голову и хмуро, на что Прокопенко пе обратил никакого внимания, сказал:
- Пожалуйста. Военком вас ждет.
Прокопенко упругим шагом двинулся к двери с красной табличкой, такой знакомой по всем предыдущим визитам, но вдруг услыхал за своей спиной сухой, как выстрел, голос:
- Не туда. Вам - в правую дверь.
Прокопенко на мгновение задержался, пожал плечами, но времени на раздумье не оставалось, и он толкнул желто-медную ручку. Очевидно, эта комната выходила окнами на теневую сторону, потому что было в ней сумрачно и прохладно. Прокопенко прищурился, чтобы разглядеть находящихся в ней. Пожилая женщина в жакете и юбке черного цвета не привлекла его внимания. Мало ли каких просительниц можно было встретить у горвоенкома. Совсем недавно отшумела война, еще умирали в госпиталях бойцы и командиры, получившие раны на иоле боя, не всем демобилизованным хватало крова и пособий, не все матери мирились с мыслью о разлуке с сыновьями, призванными на службу, в особенности если сын после гибели отца и старших братьев становился единственным кормильцем и поильцем. И уж такова Советская власть, что требовала она от каждого военкома самого внимательного отношения к нуждам любой семьи военного человека.
Женщина комкала в руках простенькую косынку в серых крапинках, усталые ее глаза даже не поднялись на вошедшего, а как-то печально и отрешенно продолжали смотреть в одну точку. Высокий и чуть сутуловатый Петр Данилович сидел за широким письменным столом, утверждая своим присутствием быт этой комнаты. Не отрывая глаз от какой-то бумаги, он протянул приглашенному сильную руку, кратко проговорил:
- Присаживайтесь вот на тот стул.
Лишь после этого Николай Модестович встревоженно поднял глаза на огромного человека в коверкотовой гимнастерке и двумя шпалами в петлицах, цвет и эмблемы которых были прекрасно знакомы бывшему офицеру. Прокопенко растерянно огляделся и сел. Машинально он положил руку на карман галифе, ощупывая находившийся там браунинг, без которого он никогда не выходил из дома. Положил, но тотчас же отдернул, до того яростным взглядом ожег эту руку незнакомец. И только тогда, с минутным опозданием, сверкнула в памяти Николая Модестовича страшная догадка: "Господи! Да ведь я уже видел его, и тоже в кабинете горвоенкома. Он вошел позднее меня и представился слесарем, вызванным по повестке. Значит, это был маскарад!"
Руку на пистолете было держать уже бесполезно. Тугой комок подкатывал к горлу. Потирая белые холеные ладони, Прокопенко как можно спокойнее вымолвил:
- Так я уже все продумал и готов выступить перед нашей молодой сменой. Полагаю, для допризывников это будет и поучительно, и достаточно интересно.-Он поднял глаза на незнакомца, как бы к нему обращаясь. - К сожалению, по велению вечных законов жизнь торопит и гонит годы. Кажется, лишь вчера мы были молодыми, бушующими от притока сил, а сегодня уже старость тронула нас и сединой, и сердечными болями, и ревматизмом. Так что нет ничего необычного в том, что новая поросль героев сменяет старую. Диалектика!
Незнакомец строго сдвинул лохматые брови, а горвоенком молча, с хрустом сжал пальцы.
- Прокопенко, - проговорил он тихо и как-то очень спокойно, - вы когда-то весьма трогательно повествовали мне о своей жене. Скажите, вам с тех пор ничего не удалось узнать о ней?
Николай Модестович с отрешенным видом опустил голову:
- Увы. Решительно ничего, Петр Данилович. Это такая драма, такая драма. Ведь я лишился навек самого близкого человека. Маша - единственная родная душа на всем земном шаре. Никто меня так не понимал и не любил. Она, вероятно, погибла в огне военных лет. Сколько нежности, кротости и благородства было в ней! Иногда среди ночи я просыпаюсь в своем мрачном одиночестве, и мне мерещится запах ее волос, я вижу поляну среди леса, на которой мы расстались. О, как становится тяжко при мысли, что больше никогда не встречу ее на своем пути...
Плечистый высокий человек нетерпеливо кашлянул и перебил его исповедь одним коротким вопросом:
- Лирику в сторону, Прокопенко. Не тот случай и не те слушатели. Скажите, женщина, сидящая напротив вас, ваша жена или нет?
Прокопенко рывком поднял голову. Тоска и отчаяние отразились в его затравленном взгляде. Он пристально вгляделся в худое, скованное мукой лицо сидевшей напротив бедно одетой женщины, поднял руки, будто защищаясь от призрака, и отчаянно выкрикнул:
- Нет! Это фальсификация! Это совсем не Маша!..
- Та-ак, - протянул чекист. - Прошу и вас, Мария Васильевна, ответить на вопрос. Этот человек был когда-либо вашим мужем?
- Никогда, - с гневом произнесла женщина. - Он ничем не похож на моего Колю. Коля был человеком, а этот...- И, не выдержав, горько расплакалась.
- Ясно, - сурово заключил чекист и позвонил в колокольчик.
Распахнулась дверь, и два конвоира, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, шагнули к бывшему офицеру. В сознании у Прокопенко мелькнула обжигающая мысль: "Бежать! Любой ценою бежать... Может быть, остался один шанс из тысячи". Он шевельнулся, чтобы запустить руку в карман, но тотчас же могучий бас "наполнил комнату:
- А ну, не баловать! Кому говорю! Оружие на стол!
Конвоиры с двух сторон приставили штыки к груди задержанного, и Прокопенко понял: сопротивление бесполезно. На какое-то мгновение ему показалось, что пол под ним разверзся и он летит в глубокую, беспросветную от черного мрака пропасть, не в силах задержать падения. В ушах звенело, и, обращенный к конвоирам, суровый голос чекиста не сразу дошел до сознания.
- Отведите в соседнюю комнату, дайте чернила, ручку и бумагу. Пусть он напишет автобиографию, укажет, где и при каких обстоятельствах присвоил себе фамилию героического красного командира батареи Прокопенко и в каких целях организовал убийство командира кавалерийского полка Павла Сергеевича Якушева. Все.
Чекист замолчал, а бывшему офицеру врангелевской контрразведки показалось, что он наконец-таки долетел до самого .дна черной пропасти и грудью напоролся на острые скалы. Напоролся так, что уже никогда не сможет больше подняться на ноги.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'