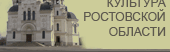
Часть третья. Расплата
Помню, когда мне было восемь с небольшим, наша учительница, бывшая санитарка буденновского полка, одинокая пожилая женщина с грустными голубыми глазами, в которую мы всем классом были безоговорочно влюблены, однажды сказала:
- Вот что, дети. Напишите мне к следующему понедельнику домашнее сочинение на тему: "Мой дедушка". Каждый из вас может взять семейный альбом и отыскать в нем фотографию своего дедушки. У всех у вас есть папы и мамы. Они могут подробно рассказать о дедушке. Договорились?
- Договорились, Вера Михайловна, - загалдели мы в ответ.
Отца моего дома не было, а мать, выслушав эту просьбу, молча достала альбом с фотографиями и стала его перелистывать.
- Вот твой дедушка, - сказала она, остановив свой палец на одной из них. Фотографии были наклеены на плотный картон с красивым, в завитушках, фирменным штампом владельца мастерской, под фамилией которого крупными буквами было напечатано: город Новочеркасск. На матовосинем фоне я увидел хмурого человека с широко расставленными круглыми невыразительными глазами, про которые принято говорить: глаза-пуговки. Редкие волосы обнажали препорядочную плешь. Человек этот постно, как показалось мне, недружелюбно глядел на меня.
- Это и есть дедушка? - спросил я разочарованно.
- Это и есть, - со вздохом ответила мать, - только я не советую тебе что-либо про него писать. Твой дедушка ничего особенного на нашей земле не совершил, даже для того, чтобы заслужить право быть героем школьного сочинения. Был купцом, разорился, и только. Уж если ты получил от учительницы задание написать сочинение, так пиши лучше о прадеде своем, об Андрее Якушеве.-Она порылась в верхнем ящике облезлого деревянного комода - отец всегда называл его тещиным приданым - и извлекла оттуда обернутый материей карандашный рисунок, сделанный, вероятно, очень и очень давно и так проигрывающий в сравнении с роскошным снимком новочеркасской фотографии придворного фотографа Полити.
- Так ведь это же, - грустно заметил я, - даже не фотография.
Мать засмеялась и взъерошила мои волосы.
- Глупый! Это наша семейная реликвия. И самая дорогая к тому же, если хочешь знать. Да будет тебе известно, что этому рисунку более ста лет. Вглядись получше, глупыш,.
Я вгляделся получше, но восторга в себе не обнаружил. Разочарованный, я долго смотрел в темно-карие глаза матери и удивлялся их необыкновенному свойству: когда мать была веселой, они бушевали яркими искорками, но стоило ей только загрустить, в зрачках ее эт.и искорки мгновенно угасали, словно стайка птичек улетала, и они меняли свой цвет, становились строгими, дао/се отчужденно холодными.
- Твой прадед, - продолжала мать, - был человеком драматической судьбы.
- А что такое драматическая судьба? - не вытерпел я.
- Как бы тебе объяснить, - запнулась мать, - каждый человек ищет в жизни свое большое счастье, но далеко не каждый легко его добывает. Иной идет к своему счастью очень долгим путем, терпит горечь, обиды, несправедливости. Бывает, что за такое счастье приходится платить даже собственной жизнью. Вот это и есть, по-моему, драматическая судьба.
Я долго рассматривал рисунок. На нем было изображено вырванное с корнем дерево, перегородившее лесную дорогу; судя по кроне, сосна или ель. У этого дерева стоял казак в высокой черной шапке, с длинной саблей на боку, и держал под уздцы оседланного коня. Глаза у казака были добрые, но печальные, и на всем лице, с острыми лучиками морщин в углах рта и тонкой полоской не слишком густых усов над верхней губой, лежала печать недавно пережитой обиды. Очевидно, рисунок этот доставался из комода и разворачивался на свету весьма редко, потому что карандашный штрих был еще достаточно резок.
- Так твоего прадеда в восемьсот двенадцатом году нарисовали, когда Кутузов погнал Наполеона от сожженной Москвы на запад. Вы еще будете и в школе эту войну изучать. Так вот, прадед твой только-только вернулся из боя и спешился, чтобы размять ноги, потому что долго-долго скакал в седле. И вдруг подъехал к нему всадник, усатый, веселый, и крикнул: "Послушай, братец! А ну-ка, задержись в этой позе, и я тебя увековечу. Ишь ты, какой красавец. Да как же это глупый Бонапартишка осмелился идти против этаких богатырей?" Незнакомец быстро нарисовал твоего прадеда, свернул было рисунок, чтобы забрать с собой, но вдруг передумал и сказал, обращаясь к Андрею Якушеву: "Нет, лихой рубака, ты лучше на память его возьми. И всем потом говори, что тебя сам Денис Давыдов увековечил во время привала". С этими словами он поставил в уголке свою подпись. Вот как это было, сынок!
Я в ту пору явно недооценивал автографы и тем более не знал, кто такой Денис Давыдов, но меня озадачило другое.
- Так ведь это же казак! - воскликнул я разочарованно.
- Ну и что оке? - удивилась мать.
- Как что? А все казаки белогвардейцы.
В темно-карие глаза матери снова вернулись веселые птичьи стайки.
- Откуда ты взял, что все, кто родился на Дону, - белогвардейцы? - спросила она с укором.
- Все как есть, - стоял я на своем.
- Значит, и Буденный? - не без ехидства уточнила мать.
- При чем тут Будённый?-восстал я решительно.- Буденный - это герой из героев, командарм Первой Конной. Вот он кто!
- И все-таки он на нашей донской земле родился,- стояла на своем мать. - Если не веришь, спроси у своей учительницы.
Я внял этому совету и на следующий день узнал много такого, о чем не имел никакого представления раньше. В присутствии всего класса Вера Михайловна подтвердила материны слова о том, что Семен Михайлович Буденный, наш самый любимый герой, действительно рос на Дону и что далеко не все донские казаки каратели, вешатели и белогвардейцы. Впервые я тогда услышал о Подтелкове и Кри-вошлыкове; а о восемьсот двенадцатом годе, Кутузове, Платове, Денисе Давыдове и таких воинах, как мой прадед, она рассказывала до самого звонка на большую перемену. Когда я возвратился домой, то весело сообщил своей родительнице:
- Оказывается, ты права. Казаки бывают и белые и красные. А про нашего прадеда Вера Михайловна сказала, что он настоящий герой, если под знаменами самого Кутузова бил Наполеона. Мама, а наш прадед действительно много подвигов в том восемьсот двенадцатом совершил?
- Много, - не задумываясь, ответила мать, помогая мне снять тяжелый заплечный ранец из желтого дерматина, в котором грохотали чернильница-непроливайка и высыпавшиеся из пенала карандаши. - Много. Только жизнь у него не стала от этого легче. Он погиб очень молодым, всего на двадцать восьмом году, и вся его короткая жизнь была сплошным страданием.
1
Над небольшим, хорошо укрепленным французским городком Намюром низко-низко висело мутное февральское небо. Тучи прятали от человеческого взгляда купол местной церкви и едва-едва не задевали своими бледно-дымчатыми краями острые камни крепостной стены с врезанными в нее бойницами. Помутнелое небо веяло холодом, но холод этот был не тем ярко-синим бодрящим морозцем, который стоял сейчас где-нибудь под Москвой, Тарусой или Смоленском. С неба время от времени срывались капли дождя, перемешанного со снегом, а ветер над голыми полями дул колкий, пронизывающий до костей.
Преследуя разбитые наполеоновские войска, Матвей Иванович Платов оторвался с одними верховыми казаками от пехоты, преодолевавшей непролазную грязь, и остановился у стен Намюра, разместив свой штаб в большой деревне. Накинув на плечи мохнатую кавказскую бурку, зябко морщась, расхаживал он по довольно просторной комнате, где на столе уже лежали полевые карты, в углу были свалены запасные седла, а от чекменей входивших и выходивших казачьих офицеров тянуло топким запахом конского пота.
Платова знобило. Даже испариной покрылся широкий лоб, отчего к нему прилипли жиденькие прядки волос. За стеной дома послышался топот издалека прискакавших лошадей и человеческие голоса. Вбежал покашливающий ординарец Спиридон Хлебников и, важно откозыряв, доложил:
- Ваше превосходительство, Матвей Иванович, возвернулся парламентер.
- Живой, здоровый? - быстро спросил Платов. - Немедленно веди ко мне.
Порог перешагнул майор Денисов. Он еще устало дышал от стремительной езды. На смуглом обветренном лице под бровями вразлет почтительно замерли красивые выпуклые глаза, когда он откозырял и вытянулся в струнку. "Вот ведь история, - подумал Платов. - Был полицейским офицером сыска, малопонятным человеком, а в боях и походах таким молодцом оказался, что лучше и не придумаешь. Не зря ему майорский чин пожалован по моему ходатайству".
- Ну что, голубчик? Как вижу, живым и невредимым тебя отпустили французские завоеватели?
- Белый флаг помог, ваше превосходительство.
- А главного их коменданта видел?
- Так точно.
- А какое он впечатление произвел? - медленно приближаясь к основному вопросу о результатах переговоров, тянул Платов. Тянул потому, что уже догадывался, что не с доброй вестью вернулся парламентер.
- Хорохористый мужичок, - поморщился Денисов.
- Та-ак, - протянул Платов. - А теперь выкладывай ответ, каким бы он пакостным ни был.
- Комендант гарнизона Намюра сдать крепость немирному отказался, - глядя в глаза походному атаману Войска Донского, доложил майор. - Он попросил слово в слово передать ответ.
- Передай, - все больше мрачнея, выдавил Платов.
- Разрешите слово в слово? - звякнув грязными шпорами, осведомился Денисов.
- Давай.
- Комендант ответил: "Рвы наполнятся трупами, река обагрится кровью, но города не сдам! Храбрость французов известна всем".
- Экий хвастун! - возмущенно закричал Платов. - С битой мордой, да еще смеет говорить о храбрости! Это что же? Выходит, бегство от Москвы до Парижа, у стен коего мы стоим, храбростью у них почитается? Иди отдохни, голубчик. Ты отменно выполнил мое поручение. А ты, Хлебников, обойди всех полковых командиров и передай, что я хочу видеть их у себя в два часа дня. Поспешай.
Оставшись в одиночестве в просторной комнате нерусского дома, с гравюрами и портретами на стенах, Матвей Иванович ощутил новый приступ озноба. Скептически поглядев на рекомендованные полковым лекарем порошки, он достал из окованного железом небольшого дорожного погребка бутылку перцовой настойки, налил половину стоявшего на комоде простенького бокала и, стоя перед зеркалом, самому себе подмигнув, выпил.
- Это все же получше, чем порошки, - усмехнулся он.
Озноб как будто бы ослабел. Платов, не раздеваясь, лег на жесткий деревянный диван, положив под голову скомканную бурку. Более двух часов оставалось еще до совещания с командирами полков, на котором ему предстояло объявить свою волю. Но практически решение уже готово, обдумано им до мельчайших подробностей. Все взвешено, и никаких сомнений не осталось. И еще он был теперь уверен, что принятое им решение обязательно приведет к победе. "А почему? - смеживая тяжеловатые веки, спросил он самого себя и тотчас же ответил: - Я ведь все же удачливый".
Ему вдруг вспомнился эпизод из собственной жизни, никоим образом не связанный ни с какими штурмами и кавалерийскими атаками. Любимец всего двора, перед отъездом на Дон был он как-то приглашен на обед в покои императрицы Марии Федоровны. И все протекало отменно, но уже после десерта, откланиваясь, Платов задел саблей драгоценную фарфоровую вазу и опрокинул на пол. А хороший фарфор, как известно, и бьется-то хорошо. Ваза разлетелась вдребезги. Лакеи в раззолоченных ливреях, прислуживавшие во время обеда, замерли от столь неслыханного происшествия. А Платов ужасно растерялся, для чего-то отскочил в сторону, поскользнулся и неминуемо упал бы, если бы находчивая Мария Федоровна сама не поддержала его за локоть. Он обрел равновесие и, рассмеявшись, ответил: "Государыня! И падение мое меня возвышает, потому что я имею счастье еще раз поцеловать руку моей монархини". Затем он оборотился к придворным, присутствовавшим на обеде, и прибавил: "А пословица-то и на самом деле сбылась! Говорят, что если казак чего не возьмет, так разобьет. Первое неправда, а второе и со мною сбылось".'
"Вы удачливый, - наградила его милостивой улыбкой императрица, - вы далеко пойдете!"
"Вот и пошел, - подумал про себя Платов. - Можно считать, от сгоревшей Москвы до самого Парижа дошел. И дойду!"
Он вдруг окончательно задумался, представив, каким сложным и трудным был этот путь, сколько осталось позади разоренных деревень и городов, обнищавших семей, оставшихся без крова, сколько лично ему известных казаков сложили головы, кто на окраинах Смоленска, кто под Бородино, а кто и при форсировании Березины во время преследования Наполеона. И как это царь Александр не разглядел сразу коварную сущность человека в черной треуголке, с жирным, выпирающим брюшком, которое даже самый искусный портной не в состоянии был скрыть. С этим человеком Платов впервые встретился при заключении хрупкого Тильзитского мира, не предвещавшего ничего хорошего в будущем. В свите придворных присутствовал Матвей Иванович при свидании Александра I с Наполеоном. Холодные, надменные глаза восходящего полководца остановились на какое-то мгновение и на нем. Внезапно, не отвечая на взгляды присутствующих, Наполеон обратился к нему:
- Говорят, вы отменно стреляете из лука, господин генерал?
- Немножко умею, - скромно ответил Платов, и беседа с помощью переводчика продолжалась.
- Господин генерал, - с подчеркнутой вежливостью попросил Наполеон, - а не могли бы вы показать свое искусство?
- Пожалуй, никаким особым искусством я не обладаю, - сдержанно ответил Платов, - но лук держать в руках мне приходилось. Что правда, то правда.
Принесли мишень, и Платов с большого расстояния одну за другой послал в ее центр три стрелы. Наполеон воскликнул "браво", но лицо его тотчас же стало холодным.
- Скажите, генерал, неужели на Дону все казаки столь метко стреляют?
- Если понадобится, то все, - не моргнув глазом, подтвердил Матвей Иванович.
- О! - воскликнул Наполеон. - С таким войском трудно было бы сражаться.
- Зачем же сражаться? - возразил донской атаман. - Лучше дружить.
На той встрече Наполеон подарил ему золотую табакерку, а Платов ему свой лук, украшенный драгоценными каменьями. Табакерка и по сей день была при нем. Взял ли Наполеон его лук, когда шел покорять Москву и тем более когда в ноябре 1812 года, бросив армию, бежал в почтовой карете под именем Коленкура, оставив маршала Нея прикрывать отступление своей разбитой армии, этого Матвей Иванович не знал.
Стараясь улечься на жестком диване поудобнее, Платов свесил левую ногу, и сапог звонко царапнул шпорой немытый пол. Тупая боль на мгновение сковала позвоночник и тотчас отпустила. "Это уже не от простуды, а от старости, - решил он и тяжело вздохнул. - Разве легко в шестьдесят два годика с рассвета и до заката качаться в седле наравне с молодыми казаками, ходить в атаки под артиллерийским огнем, показывая войскам пример хладнокровия и неустрашимости".
Лишь на несколько минут успел он забыться в зыбком сне, но мгновенно очнулся, когда в комнату, намеренно громко стуча сапогами, вошел Спиридон и сказал:
- Ваше превосходительство, командиры полков собрались и ждут распоряжений.
- Зови, - приказал Матвей Иванович.
Когда несколько рослых полковников, гремя саблями, вошли в комнату, он уже успел протереть глаза и накинуть на себя черную кавказскую бурку, сразу сделавшую богатырской его не слишком-то крупную фигуру.
- Садитесь, боевые мои соратники, - приветливым жестом пригласил их Платов и развернул на столе полевую карту. - Спиридон, пришпиль-ка ее получше да позаботься о самоваре. - Потом он встал, разминая кривые кавалерийские ноги, циркулем ткнул в небольшой черный прямоугольник. - Вот Намюр, дорогие мои полковники, крепость, что застряла у нас как в горле кость. И дышать трудно, и сразу ее не проглотишь. Но хочешь не хочешь, а чтобы хорошо дышать, надо ее немедленно проглотить.
- Проглотим, - всколыхнулся над столом голос полковника Коротаева.- И не такие крепости проглатывали.
- Спасибо за подобную готовность, - одобрил Платов. - А теперь послушайте и меня. - Платов уперся локтями о край стола, ладонями охватил седеющую голову с розовыми залысинами. - Как известно вам, сегодня утром я посылал в Намюр парламентера. Была слабая надежда на то, что гарнизон благоразумно сдастся. Однако комендант сей крепости оказался довольно дерзким офицером и решительно отклонил капитуляцию. - Платов отнял от головы ладони, сцепил их перед собой. - Что будем делать, господа полковники, в подобной, неблагоприятно для нас слояшвшейся обстановке? - Он встал и, не снимая бурки, прошелся по комнате, бросив косой взгляд в темный угол, где Спиридон возился с медным пузатым самоваром, таким родным в этих далеких от России краях,- Разумеется, господа, самый простой выход - это дождаться, пока подтянется пехота с артиллерией и численный перевес будет за нами. Но позволю себе заметить, что Намюр - опорная крепость на пути к Парижу и, если не взять ее с ходу, наступление всей русской армии будет замедлено. А имеем ли мы на то право?
- Нет, не имеем! - выкрикнул кто-то из полковников, а остальные поддержали его сдержанным гулом голосов.
- Правильно, - проговорил Платов. - Надо штурмовать. Но так как нас мало, то предлагаю осуществить сей штурм в ночное время. Полки должны быть спешены и выдвинуты на осадную позицию, орудия также выдвинуты вперед. Что касаемо лошадей, то они будут оставлены позади. С наступлением темноты приказываю при обозах и на всей глубине нашего тыла непрерывно жечь костры и переносить огни все дальше и дальше от крепости, дабы создать у неприятеля иллюзию, что на него идет несметная сила. Мои славные боевые полковники! Вспомним пословицу: на бога надейся, а сам не плошай. С вашей помощью я решился взять этой ночью Намюр и открыть дорогу на Париж. Мы русские, и никакая сила нас не сломит!
- Верно! Возьмем Намюр приступом! - раздались одобрительные голоса. Платов взял со стола свернутый трубочкой лист бумаги и вновь обратился к присутствующим:
- Тогда разрешите огласить приказ? - Голос его звонко разнесся под низким сводом потемневшего от времени, давно не беленного потолка. - "С пламенной любовью к отечеству совершим сей ночью приступ к Намюру. Со всех полков снаряжается по три, а с Атаманского - пять сотен наших казаков с дротиками. У кого есть патроны, тот должен^ быть при ружьях". - Платов отложил в сторону лист, и тот мгновенно скатался в трубочку. - Виноват, - вскричал Матвей Иванович, - а конец-то я забыл! Вот каков конец: "Овладев городом, не чинить жителям никакого вреда, никакой обиды. Покажем врагам нашим, что мы побеждаем супротивников верою, мужеством и великодушием". А теперь, с богом! - быстрым властным взглядом перебегая с лица на лицо, заключил Платов. - Ступайте по своим полкам и начинайте подготовку.
2
Сумерки в этом краю наступают быстро и неотвратимо. Напитанная дождем и снегом огромная туча остановилась над окраиной деревни и, казалось, готова была рухнуть на аккуратные домики, ставшие временным местожительством донских казаков, на рыхлые невспаханные поля с побуревшей прошлогодней стерней и разбухшие от грязи дороги. Только одна из них, вымощенная булыжником, была твердой и относительно чистой - дорога, уводившая в крепость Намюр.
Крестьяне сначала испугались ворвавшихся с боем казаков, но, убедившись, что те не собираются чинить им каких-либо бед, охотно стали впускать их в свои дома обогреться и прикорнуть с усталости. А бесноватый смуглолицый Митька Безродный успел в одно мгновение настолько расположить к себе рыжую хохотушку служанку кюре Элизу, что, невзирая на шутки друзей, они сбегали в ближайший овин и возвратились оттуда оба веселые, раскрасневшиеся, запыхавшиеся. Элиза едва успела чмокнуть на прощание в щеку казака и убежать, как на своем пути Митька Безродный наткнулся на мрачноватого майора Денисова. Остановив на нем строговатые выпуклые глаза, офицер сухо спросил:
- Казак Безродный, что за распущенность? Да ведь если все казаки с хорошими девчонками по овинам разбегутся, кто же тогда будет Намюр и Париж брать?
- Да я что, - нагловато хлопая глазами, отвечал Митрий, - я ничего ить не сделал такого-этакого. Даже сам кюре, как тут ихнего попа зовут, не вправе на меня обидеться. Все по общему согласию произошло. И ей хорошо, стало быть, и мне неплохо.
Под вечер казакам зачитали приказ командира корпуса генерала Платова о штурме крепости и велели всем до единого покинуть дома, сосредоточиться на окраине деревни, откуда открывалась прямая дорога к крепости, и разложить множество костров. Едва лишь утонули во мраке на одну треть срезанные туманом голые тополя, Андрей Якушев и Сергей Чумаков, тот самый Сергей, что когда-то помог ему под Бирючьим Кутом сколотить плот и указал путь по разливу до самого Черкасского городка, разожгли огромный костер и с наслаждением грелись подле огня вместе с другими казаками своего взвода. Кто-то подбросил в огонь охапку сена, и сырые дрова затрещали. Отсветы ярко-желтого пламени облили высокую фигуру Якушева - от забрызганных грязью сапог до глубоко нахлобученной на голову шапки с барашковым верхом. То темным, то удивительно ярким было его лицо со строго сведенными печальными глазами и скорбно опущенными уголками рта. Сергей Чумаков, лихой разведчик и рубака, в шапке, сбитой набекрень, помешивал прутиком в костре, искоса поглядывал на товарища.
- Чего такой смурной? Идти на штурм, что ль, не хочется? Не узнаю героя.
- Да что ты, брат, - сбивчиво ответил Якушев. - Бой есть бой, и, коли приказ получен, наше дело одно - в седла и на врага. Только если ты хочешь, чтобы я душу свою излил, одно могу молвить: устал я уже от войны. Вот тебе крест, устал. Мне каждый день Новочеркасск снится.
- По Любаше соскучился?
- Ишо как, - подражая казачьему говору, ответил Андрей. - Одну ее в своих снах и вижу.
- Ничего, - добродушно ответил Сергей. - Она у тебя строгая, нетто кого до себя допустит. Не то, что эта служанка местного попа Элиза, которой все равпо с кем, был бы стог сена поближе.
- А ты ее не кори, - негромко возразил Андрейка.- Может, и она права. Наш Безродный лицом раскрасавец. Может, увидав такого казака, она и голову потеряла.
- Во-во! - воскликнул прислушивавшийся к их голосам Митька Безродный. - Урядник правильно гутарит, ребята, Элизка именно голову потеряла. Я от ее, а она за мной. А что же мы за донские казаки, если женщину приласкать не в силах? Я ее, может, на Дон, после того как тот самый Париж возьмем, увезу. А что? Ведь привозили же наши деды в Черкасский городок пленных турчанок. А чем француженка хуже турчанки? Я как есть холостой, и каяться мне не перед кем. Разве что перед попом Агафоном из Черкасской станицы?
Пламя бушевало в костре, корежа уже отогретые от сырости и снега дрова. Скрестив на груди сильные руки, Андрейка стоял задумавшись, не ввязываясь больше в их веселый говорок. Подъехала полевая кухня, и казаки, гремя котелками, дружно окружили ее.
- Урядник, - добродушно сказал из темноты Митька Безродный, - вы грейтесь, я ваш котелок захватил.
- Благодарствую, - откликнулся Якушев.
Потом он ел горячую, чуть прогорклую кашу с редкими кусочками мяса, грыз сухари, выданные к ней в дополнение. "Странная штука война, - думал он горько. - Вот убил я своего барина Веретенникова, от которого вся округа стонала. Убил лишь потому, что не мог поступить иначе, и за это, угоди я в руки правосудия, был бы немедленно казнен либо, в лучшем случае, сослан на вечную каторгу. А на войне, чем больше убиваешь, тем большая тебе честь и хвала. А нешто люди в форме французских солдат и офицеров, которых я убивал с одобрения всего военного начальства, хуже барина Веретенникова?"
Андрейка вспомнил, как под Смоленском скакал он в сотне бравых своих земляков, настигая обессиленных, вяло отстреливающихся, еле бредущих по зыбучему снегу, сломленных духом наполеоновских гренадеров. Заранее избрав себе цель, он метнул дротик в убегающего от дороги человека, и дротик этот вонзился тому в спину. Обхватив закоченевшими руками ствол белой березы, гренадер медленно падал, пятная снег своею кровью. Руки его скользили по белой коре, он держался за дерево, как за жизнь. Но жизнь уходила из его насмерть пораженного тела, и руки его, где-то у самого корня березы, бессильно расцепились. Когда после завершения атаки Андрейка подъехал к этому месту, увидел доброе, как ему показалось, рыхлое лицо и голубые застывшие глаза, вопросительно устремленные в небо.
Сейчас он только вздохнул от неожиданного воспоминания. Блики от костра падали на составленные в козелки ружья. Где-то поблизости ржали в темноте оседланные кони. И все сейчас над этой чужой и пасмурной от февральской стужи землей было наполнено тревогой ожидания, которую не способны были развеять пи шутки, ни смех. Вглядываясь в лица казаков, вспоминал Якушев о том, как в суровом двенадцатом году в подмосковных лесах, вытоптанных полчищами Наполеона, свела их судьба в одну лихую сотню: его, Дениску Чеботарева, доброго, но отчаянного в бою Луку Андреевича Аникина, Митьку Безродного и Сергея Чумакова, да еще сынка богатея Федора Кумшатского Гришку. Тот вообще отчебучил номер. Вопреки мольбам и увещеваниям батюшки, который либо умолял, либо грозил родительским своим проклятием, ушел добровольцем на сборный пункт и упросился на войну.
- Да что ты там будешь делать? - с издевкой спросил его ладный Митька Безродный. - Ты ить даже в седле сидеть как следует не умеешь. Разве что кашеварить?
- А хоть бы и кашеварить, - лихо огрызнулся Гришка. - Я этого Бонапартишку поперед вас изловлю да в котле с кашей сварю.
Сотней этой с первых же дней стал командовать офицер Денисов. От стен почерневшей от дыма Москвы она прошла почти две тысячи верст до этого самого ставшего теперь на их пути Намюра. И с какими боями! При воспоминании о них Андрейка Якушев глубоко вздохнул. Он вдруг подумал о том, что далеко не все из тех его друзей и побратимов, с какими уходил он из Новочеркасска в солнечную осень на войну, делая в седлах по шестьдесят верст в день, сидят сейчас за этим костром.
Вспомнил Якушев Березину, этот последний рубеж, на котором сопротивлялись отступающие войска Наполеона. Их сотня развернулась тогда лавой, а лава - это самый страшный боевой порядок казачьей конницы. Скачет она на врага ровно вытянутой цепочкой, и вдруг по приказу командира, когда меньше всего ожидает этого враг, фланги, словно крылья большой хищной птицы, начинают загибаться, охватывая противника с двух сторон, так что он оказывается как бы в котле. А если врагу удается-таки разорвать это кольцо, лава с криком, свистом и гиканьем стремительно перестраивается и обрушивается на слабое звено в его боевом порядке, все сметая на полном скаку. Ни один чужеземный полководец не мог разгадать, по каким законам управляется лава, как и для чего командир, ею повелевающий, меняет свист и гиканье, по которым совершаются перестроения. Так и тогда было. Стремительно мчалась лава сквозь завесу пуль и снарядов. Первым, раненный в руку, выпал из седла Денисов. Но лишь на секунду свесился с коня своего Лука Андреевич Аникин, лишь для того, чтобы подхватить упавшее на снег знамя. А потом оно снова взвилось над головами наступающих казаков. Уже менее чем полверсты оставалось до вражеских огневых позиций, когда, сраженный осколком, тяжело упал с лощади Дениска Чеботарев, не успевший даже застонать, и по рядам наступающих пронеслось истошное: "Чеботарева убило!" У Андрейки сиротливо сжалось сердце, и показалось ему, что весь мир должен был замереть от ужаса в эту минуту. Но лава, обстреливаемая огнем французов, мчалась по-прежнему вперед, и десятки копыт остервенело били прокаленную морозом землю.
- Дядя Лука-а-а! - отчаянно закричал Якушев. - Брательника убило... Дениса!
Он ожидал, что Аникин окаменеет от ужаса, застонет, но тот резко оборотился и ожег Андрейку гневным взглядом яростных зеленых глаз, так исказившим его обычно доброе и насмешливо-приветное, лицо.
- Место! Место свое в лаве держи, чертов сын! Впе. ре-е-ед!
Пламя и дым брызнули перед самой мордой Андрейкиного коня, отпрянувшего в сторону, и вдруг увидел, к своему ужасу, Якушев, что конь Луки Андреевича будто споткнулся, так резко он остановился, повинуясь туго натянутому поводу. Захлестнутые боевым азартом, они не заметили, что вырвались вперед.
- Дядя Лука, ты что? - недовольно выкрикнул Андрей-ка, понимая, что от этой непредвиденной остановки может расстроиться вся атака. Не отвечая на его окрик, Аникин беспомощно навалился всем своим маленьким сухим телом на шею коня, попытался ее обхватить, но слабые руки разжались, и он медленно сполз из седла на землю, выронив знамя. Андрейка склонился над ним.
- Я ранен, сынок, - хрипло прошептал Аникин. - Веди сотню. Атака не должна иссякнуть... Если что, передай Настёнке мое последнее слово: живите дружно.
- Тебя подберут санитары, - горьким голосом обнадежил Якушев и почувствовал, как поднимает его в седле злая, неистребимая сила мести. Вскинув над головою знамя, он выкрикнул: - За мной! - и повел сотню. В дикой ярости, едва владея собой, Андрейка настиг убегающих от первого орудия артиллеристов и саблей, легким, размашистым ударом, разнес одному из них голову. Потом догнал второго, убегавшего с поднятыми вверх руками, искривленным от страха ртом. Этот что-то кричал на чужом, незнакомом языке и мгновенно оборвал свой крик, когда Якушев рубанул его наискось тем самьш страшным ударом с правого плеча налево, какому еще под Новочеркасском на сборном пункте научил его Лука Андреевич.
Беспорядочная стрельба отступающих французов все слабела и слабела. Другие, свежие сотни обогнали их потрепанную лаву и стали на большой скорости преследовать противника, уже надломленного и объятого самым неистребимым па войне страхом - страхом поражения.
К Андрейке подъехал полковой командир, скупо похвалил:
- Молодец, Якушев, сберег честь казачьего знамени. - А потом достал из кармана батистовый платок, обтер лицо. Андрейка даже удивился тому спокойствию, с которым полковник это проделал среди свиста пуль и снарядного гула. И прибавил: - Передай по цепи - твоя сотня отводится в тыл. Будете наготове в резерве, вон в том леске. Туда свезут и раненых и убитых.
Когда со своими казаками Якушев прискакал в указанное место, он недосчитался восемнадцати человек из сотни. Восемнадцать отважных, столь близких ему донцов полегли на стылой, завьюженной земле, в такой дальности от своих родных мест. Восемнадцать казаков не смогли сказать слова прощания женам и детям. Восемнадцать казаков навсегда сомкнули глаза свои, и были среди них два самых дорогих ему человека, которым и он и Любаша навсегда обязаны своим спасением: лихой, бесшабашный Дениска Чеботарев и добрый, кроткий, как ребенок, но такой отчаянный в бою Лука Андреевич Аникин.
К большому бугру с пролысинами от развеянного ветром снега уже стащили убитых. Семеро казаков долбили неглубокую могилу. Холодные тела Дениски и Луки Андреевича лежали рядом. У Дениски глаза были закрыты, губы плотно сомкнуты, пышный кудрявый чуб, на который заглядывалась не одна новочеркасская девчонка, занесен снегом. Лука Андреевич глядел в низкое, пасмурное небо широко раскрытыми остекленевшими глазами, спокойными, чуть напряженными, может быть, словно он мучительно хотел вспомнить о чем-то таком, что еще не успел или забыл сделать на земле. От осунувшегося худощавого лица веяло выражением спокойной застывшей мудрости. Чуть-чуть шевелились от ветра на голове редкие светлые волосы. Кто-то несильно отодвинул Андрея и, встав на жесткую землю па одно колено, поцеловал Луку Андреевича в лоб.
- Эх, Лука, Лука, верный друг моей юности. Вот уж никак не думал, что найдешь ты свою погибель в день разгрома вражьей силы. Что я Настёнке твоей скажу теперь в оправдание? Что ты честно, как и подобает донскому каза ку, сложил свою голову за царя и отечество? Да только найдет ли она утешение в этих словах. - Потом человек приблизился к Дениске, но его не поцеловал, а лишь погладил с отцовской нежностью и скорбью разметавшийся казачий чуб... И встал. Андрейка вздрогнул, узнав командовавшего всем их кавалерийским корпусом генерала Платова.-Урядник Якушев, - проговорил Платов.
- Рядовой казачьего полка, - поправил Андрейка.
- Урядник, - отрубил Платов. - С сегодняшнего дня урядник, А за мужественное поведение в бою будешь пред-ставлеп к Георгию, и давай поклянемся им, мертвым героям, что, если понадобится, не только до Парижа-всю Европу пройдем, но не посрамим честь оружия русского, сынов тихого Дона славу, потому что, ежели прикажут, казак и самому черту рога сломить в силах! - И, резко повернувшись, Матвей Иванович зашагал прочь легко й быстро, несмотря на груз прожитых лет.
3
Полыхали в ночи костры, распространяя смутный запах сосны и ели, побеждающий промозглую сырость. Казаки с наслаждением глотали горьковатый дымок, тянули к огню покрасневшие, озябшие руки. Обходя посты, Якушев задержался около одного из них, вслушался в наплывом доносившиеся сквозь дым голоса и смех.
- Это зараз, как вспомню, еще под Смоленском было,- раздавался басок пожилого степенного казака, сидевшего к нему спиной. - У французов уже голодпо стало. Кишка кишке, как говорится, кукиш показывает. Бегут они на запад, а мы - по пятам. Залетели хваленые гранадеры на окраину села и шасть в крайнюю избенку. Л там в аккурат одна лишь старушка. Обрадовались: вот, мол, повод хороший поживиться. Подступают к хозяйке: "Бабка, хлеб есть, молоко есть?" Старуха кинула им кусок житного хлеба и говорит: "А насчет молока не взыщите, дорогие гостюшки незваные. Нету у меня молока, потому как от голода пала корова. Одна коза осталась". "Казак, казак, - залопотали французы. - Где казак?" "Там, во дворе", - отвечает бабка. "Казак во дворе!" - завопили французы и бросились вон из хаты.
Якушев медленно побрел дальше. У другого костра еще заканчивали походный ужин, и было слышно, как звякают ложки и котелки. Костер освещал сидевших на срубленных деревьях казаков. В отсветах огня лица их казались фантастически четкими, будто впечатанными в мокрую темень подступившей ночи, и Андрейка сразу узнал рассказчика, сидевшего в центре. Им был тот самый широкоплечий Илья Крайнюков, с каким соревновались они в конном забеге за первый приз в день торжественного основания Новочеркасска.
- Ить что случилось, - гудел его могучий голос. - Если бы дорогой наш ветеран Лаврентий Возлюбленный был бы поглазастее да потрезвее, тому бы маршалу Нею подлинный каюк вышел. Отход-то Наполеона Ней прикрыл, в карете позволил ему укатить, а сам без солдат остался. Бросили его солдаты и кто куда разбежались. А сам Ней в такие лохмотья переоделся, что его маршальское обличье нипочто не распознать.
Лаврентий Возлюбленный в тот момент брошенные французами провиантские повозки в поисках спиртного осматривал. Ему страсть как согреться об эту пору захотелось. Но французы так все чисто вокруг повыгребали, что ему одни пустые бутылки попадались. И вдруг старичок в лохмотьях навстречу. Наш Возлюбленный принял его за литовца и спрашивает: "Дед, а дед, тут близко еще какие брошенные повозки есть?" А Ней не будь дураком да покажи ему в сторону ближайшей балочки. Иди, мол, туда и все как есть найдешь. Наш Лаврентий как скаженный бросился. А наполеоновский маршал тоже бегом, да только в другую от него сторону и с еще большей скоростью. Шутка не шутка, а утек. Однако никак он уже не походил в своих лохмотьях на первого маршала Франции. А ведь строгий какой был. Покойный Лука Андреевич Аникин, царство ему небесное, от самого Платова слыхивал, как он, уходя из Смоленска, хорохорился. Прежде чем драпака задать, с призывом к своему воинству обратился: "Солдаты! Неужели вы предпочтете постыдный плен славной смерти за императора?"
- Ну и что же? - всколыхнулся над костром чей-то сиплый голос.
- Бежали, - лениво ответил Крайнюков. - Что солдаты, что маршал.
Сидевшие у костра дружно засмеялись. Ветка хрустнула под ногой Якушева, и все оборотились.
- Садись, урядник, - сказал кто-то предупредительно.
Навстречу Андрейке встал Сергей Чумаков, подошел вплотную и дружески положил ему руку на плечо.
- Здорово, земляк, вроде сегодня с тобой не видались.
- Вроде нет, - согласился Андрей.
Сергей придирчиво его разглядывал, не скрывая горького удивления.
- Чего вздыхаешь? - насмешливо спросил Якушев.
- Да сравниваю.
- Кого и с кем?
- Урядника Якушева в аккурат с тем самым Якушев вым, какой вместе с любимой девицей от лютого барина с-под Воронежа бежал. Помнишь, как мы с тобою плот конопатили?
- Такое не забывается, Сергей...
- А ноне ты другой, - вздохнул Чумаков.
- Какой же?
- Тебя вроде обожгло, парень. Тогда ты был молоденький-молоденький, и даже пушок на щеках да подбородке гнездился. А теперь лицо твое уже и морщинками успело покрыться. А в глазах одна забота да хмурость.
- Так ведь еще бы! - беспечно ответил Якушев. - Было восемнадцать, а теперь двадцать шесть годочков вот-вот стукнет.
Чумаков озабоченно вглядывался в ночь и постепенно отступающую от земли пелену тумана.
- Ишь ты, - вздохнул он, - вроде даже как звездочка заблестала. Ты посмотри, какую мы тут иллюминацию развели. Верст на пять вокруг деревушки костры горят. Французы подумают: несметное войско у Намюра стоит, а нас тут, если разобраться, всего горстка. Однако я не позабыл, что дедушка Суворов гутарил по тому поводу, что неприятеля надо бить не числом, а умением. Нам об этих его мудрых словах Платов Матвей Иванович не единожды пояснения давал.
- Платов один из его лучших учеников, - вставил Андрейка,
- Согласен, - вздохнул Чумаков, - но что касаемо меня, то я теперь одной только думкой живу. Поскорее бы взять нам этот самый Намюр, недельки две потоптаться по Парижу - да и домой. Невозможно сказать, только каждую ночь мне Новочеркасск и родная жинка снятся. Затомились мы по своим близким в походе.
Якушев не успел ответить. Из темноты надвинулась на него плотная фигура майора Денисова.
- Урядник, ты мне надобен. Отойдем в сторону. Пусть наши лихие орлы спокойно завершают ужин да по цигарке успеют выкурить. До штурма считанные минуты.
Сергей Чумаков остался на месте, понимая, что ему не следует присутствовать при разговоре двух старших начальников. Выпуклые глаза Денисова смотрели холодно. Была в них и твердость, и задумчивость, а может, даже, спрятанная от других на самом дне, тоска. Андрею всегда казалось, будто майор хочет что-то ему сказать и не решается. При встрече или расставании долго-долго смотрит ему в лицо и отходит, иной раз даже вздохнув при этом. Несмотря на сырую пр'омозглость февральского вечера, был он разгорячен, возможно, от быстрой ходьбы, потому что вынул белый носовой платок и обтер лицо.
- Я только что от генерала Платова. Приказано увеличить количество костров.
- Да ить куда же? - удивился Якушев.- Их и так бесчисленное множество, как на параде каком.
- Парады будут потом,- строговато заметил майор Денисов,- когда добьем наполеоновские войска, и для тех, кто останется в живых. А сейчас выдели из нашей сотни семь казаков, пусть кострами займутся. Остальные - за нами и вперед, на крепость. Командир корпуса приказом своим назначил нашу сотню штурмовой группой. Как только орудия пробьют бреши в воротах, врываемся первыми и завязываем бой. Остальные за нами.- Тонкие губы Денисова не то скорбно, не то насмешливо подернулись, как будто он обжегся этой усмешкой.- Имей в виду, Якушев, если со мной что случится - ни минуты промедления. Вперед, и только вперед, как и положено доподлинному казаку.
- Слушаюсь, ваше высокоблагородие! - гаркнул Андрейка и потише прибавил: - Одно лишь хочу сказать: беду на себя зазря не накликайте.
Ничего не ответив, Денисов растворился в темноте. Якушев отсчитал шесть казаков из сотни, выстроил их и объявил, что с первой штурмующей группой они врываться в Намюр не будут, потому что их задача - разжечь в тылу новые огни, чтобы неприятель думал: это подходят главные силы атакующих. "Вот, черт,- ругнулся он про себя.- Надо же не шесть, а семь". Обвел взглядом сгрудившихся казаков и неожиданно ткнул пальцем в грудь Сергея Чумакова.
- Ты...
- Что я? - даже не понял тот.
- Ты тоже становись с ними рядом.
- Зачем? - опешил Чумаков.
- Не разговаривать! - прикрикнул Андрейка.- Становись в строй и пойдешь раскладывать костры.
Чумаков повторил приказание, но, прежде чем встать в строй, проходя мимо Якушева, укоризненным шепотом сказал:
- Урядник, а я-то хотел с тобой. Вместях на врага оно бы лучше, земляк!
- В строй! - резко выкрикнул Андрейка, а про себя тоскливо подумал: "Отчего я так предчувствую гибель другого? Ведь точно погибнет Сергей Чумаков, если пойдет на штурм. Где-то уже заряжена пуля, ему уготованная. И майор Денисов погибнет, недаром такой он печальный. Но ему я приказать не могу, а вот вывести Чумакова из боя - это в моей возможности, и правильно я делаю, что к штурму его не допускаю. Наверняка его жизнь теперь сбережется. А это надо сделать, ведь и он спас мою однажды!"
- Эй вы, веселая команда! - незлобиво крикнул кто-то из мрака этим семерым счастливцам.- Получше нам люминацию устраивайте, а мы уж Бонапартишке бока наломаем.
Штурм Намюра начался с неудачи. Два орудия, выдвинутые вперед, успели сделать несколько выстрелов по тяжелым крепостным воротам, пробили в них небольшие проломы, но неприятель ответил бешеным огнем, и первый приступ был отбит. В кипении боя на вороном коне появился у самой крепостной стены помощник Платова генерал-майор Греков и, разыскав Денисова, рассерженно прокричал:
- Черт побери, какого дьявола вы медлите, майор! Немедленно поджигайте ворота!
Огонь из крепостных бойниц все крепчал и крепчал. У наступающих прислуга первых двух орудий была полностью истреблена. Денисов приказал казакам залечь и подползти к воротам. На грязно-белом снегу при вспышках факелов, сбрасываемых с крепостной стены, были отчетливо видны одетые в синие чекмени казаки. Но когда они подползли к самому основанию ворот, прицельный огонь из крепости осажденным вести уже стало невозможно. Якушев первым это понял и обрадованно закричал:
- Кукиш вам, господа хорошие, теперь не возьмете!
- А ну, ребятки,- вторил ему Денисов,- солому, плетни, порох, все сюда!
Раздались взрывы, бурное пламя ворвалось в ночь, и ворота, ведущие в Намюр, рухнули с ужасающим треском. К этому времени вперед выдвинулись все оставшиеся неповрежденными пушки. Артиллеристы успели послать через головы солдат штурмовой группы несколько снарядов во двор крепости, и там раздались душераздирающие вопли. Очевидно, на весьма тесной крепостной территории скопилось огромное количество защитников Намюра, и каждый снаряд теперь падал в человеческую массу.
- За мной! - подал команду Денисов и выхватил саблю. В отсветах факелов и костров она неестественно ярко заблестела. Своей пули он не услышал. Он еще минуты две бежал вперед, слыша рядом распаленные азартом боя голоса казаков, но вдруг сабля выпала из ослабевшей руки, выпала сразу, как бы сама собой, и он удивился тому, что это произошло вопреки его воле. Потом он споткнулся и упал, по-прежнему не ощущая боли. Но все уже поплыло перед глазами, как в расслабляющем сне, и подбежавшему Якушеву он успел крикнуть:
- Я, кажется, ранен, урядник! Полагаю, не сильно... Ты возглавь!
- Сотня, вперед,- отчаянно позвал Якушев, потому что нельзя было останавливаться в этой яростной атаке. Несколько казаков уже лежали на чужой, неласковой земле, корчась от ран. Остальные, гикая и свистя, бросая на ходу дротики с подвязанной к ним горящей паклей, устремились навстречу дрогнувшим, но еще не побежденным французским солдатам, что были уже не в состоянии преградить беспорядочным ружейным огнем им путь. И вдруг среди пальбы, ружейной и орудийной, такой неожиданный и мягкий, раздался звук трубы.
- Тише! - пронеслось по рядам.- Прекратить огонь! Это неприятель трубит о сдаче.
Якушев остановился, и до него не сразу дошло, отчего взялась эта внезапная тишина. Он по привычке взвел курки кем-то выроненного на поле боя ружья, хозяин которого так и не успел выстрелить, но удивленно попятился, увидав перед собой конскую гриву и дорогую серебряную уздечку. Свесившись с седла, на него весело смотрел генерал-майор Греков.
- Не суетись, парняга, все кончено. Больше ни в кого стрелять не надо. Лучше отведи-ка тот большой отряд пленных к самому Матвею Ивановичу Платову. Да проследи, чтобы все они оружие сложили перед этим.
У окраинного дома, где размещался Платов со своим ординарцем и писарем Спиридоном Хлебниковым, выстроилась огромная группа пленных. Стояли они без ремней и кортиков. Их ружья были свалены в огромную лужу от дождя и снега. Лишь на одном французе оставили офицерский пояс с саблей в ярко инкрустированных ножнах - на коменданте крепости Намюр. Толстенький и коротконогий, всей своей тучной фигурой похожий на Наполеона, он старался изобразить непоколебимую гордость на широком лице, но, когда Платов, увешанный ордепами и медалями, с непокрытой головой вышел из дома на крыльцо и, ладонью опираясь на эфес своей сабли, сбежал по ступенькам, глаза коменданта обеспокоенно забегали по сторонам. Тем временем вслед за генералом Грековым войска корпуса входили в побежденный Намюр. Было их мало, и шли они разбитым от усталости шагом. Платов с достоинством, лишенным высокомерности, кивнул пленному коменданту и зычно сказал:
- Прошу в мой курень закусить чем бог послал.
Однако комендант будто окаменел, продолжая провожать напряженным взглядом последнюю сотню конников, входивших в Намюр. Лицо его было сковано ужасом.
- Но где же ваша пехота? - спросил он дрожащим голосом.- Неужели?..
Платов, сдерживая усмешку, кивнул головой.
- Вот те люди, которые штурмовали вашу крепость нынешней ночью и добились победы.
- Как? Только они?
- Да.
Комендант зарыдал и обхватил руками голову.
- О! Я должен быть немедленно расстрелян за свою оплошность! Если бы я знал, что в штурме участвуют одни казаки, и в таком малом количестве, я бы не сдал Намюр.
- Э! Друг мой! - воскликнул Платов.- Прежде не хвались, а богу помолись. Напиши-ка лучше своему Наполеону, что казаки, когда они воюют за Родину, страшнее любого черта. Однако зла побежденным мы делать не намерены. Ясно, милейший?
К Якушеву, присутствовавшему при этой сцене, подошел военный фельдшер и зашептал на ухо:
- Вас, урядник, хочет видеть майор Денисов. Плохой он, совсем плохой. Поторопились бы!
"Как же это я сразу не вспомнил и не пошел? - укоризненно подумал о себе Андрейка.- Неужто бой все памороки поотшибал?"
Денисов лежал в шатре полкового лазарета на самой крайней от входа койке. Он был накрыт белой простыней, поверх которой лежал его собственный синий чекмень. Выпуклые глаза были широко раскрыты и устремлены в брезентовый верх шатра с тем безотчетным равнодушием, с каким они смотрят у опасно раненных, постепенно проигрывающих борьбу за жизнь. В шатре стоны раненых заглушали голоса хирургов и санитаров.
- Кто? - сипло спросил Денисов, когда Андрейка в сопровождении фельдшера остановился у его ног.
- Это я, ваше высокоблагородие,- ответил Андрейка,- урядник Якушев.
- Ты? - тем же отрешенным от всего окружающего Голосом уточнил Денисов.- Это хорошо, что ты пришел. Я уже потерял всякую надежду. Только не зови меня майором, Андрейка. Меня Григорием Степановичем зовут, если не забыл, и перед богом я человек... всего-навсего человек, а какой, тебе лучше судить. Ты здесь один?
- Один,- послушно ответил Андрейка.- Меня сюда фельдшер привел, Григорий Степанович.
- Вот и хорошо,- с усилием выговорил майор.- Наклонись ближе, парень.
На мгновение Денисов сомкнул тяжелые веки, и лицо его покрылось мелкой испариной. Губы посинели и сжались, удерживая непрошеный стон.
- Вот не ожидал, что эта пуля меня насовсем,- пробормотал Денисов как-то виновато.- Показалось, рана пустяк, а видишь, что вышло.- Он вновь замолчал, а Якушев с тоскою подумал, как трудно растянуть минуты, если они последние. Всем своим существом, в тревожном ожидании, он ощущал, что неспроста позвал его этот храбрый, несколько замкнутый майор и сказать собирается о чем-то очень серьезном, о таком серьезном, что даже и сейчас, когда уходила навечно из его молодого красивого тела жизнь, не мог этого сделать сразу и намеренно затягивал. - Деткам моим передашь привет,- не открывая глаз, шептал Денисов.- И жене тоже... а Матвею Ивановичу скажи, что похоронить прошу тут, в Намюре, возле взятой нами крепости. Если новые Бонапарты появятся, пусть помнят, что донской казак Григорий Денисов почти до самого Парижа дошел и не стоит им больше пытать военного счастья у стен Москвы, как в этом походе. Ты где, Андрейка?
- Здесь,- тревожным шепотом ответил Якушев, удивившись, что смертельно раненный Денисов снова зовет его по имени. Наклонившись к нему, он ощутил удушливый запах от перевязанной раны, прямо перед собой увидел раскрывшиеся воспаленные глаза, грустные и большие.
- А теперь самое главное,- захрипел Денисов.- Это еще когда я начальником сыска в Черкасске был... бумага на тебя приходила по розыску... понимаешь?
- Понимаю,- тише его прошептал Андрейка и бессильпо уронил тяжелую голову на грудь.
- Ищут тебя по всей России... Что ты там наделал? Скажи хоть мне напоследок, мы же с тобой одной пролитой кровушкой связаны.
Андрейка опустился на колени, руками схватился за холодный железный край лазаретной походной койки.
- Я помещика своего убил, господин майор,- выпалил он с пеояшданной для самого себя решимостью.- Зверь был помещик, всю спину мне исполосовал... только я его но за это. Он Любашу мою в покои свои приказал привести, чтобы силком... а я не смог, Григорий Степанович, не смог, потому что после этого мне бы только в петлю или башкой в омут.
- Несчастный,- прервал его раненый,- я и предполагал, что не мог ты пойти на такое ради грабежа или другой какой корысти. Святое дело за девушку заступиться, и руку ты поднял по справедливости. Но ведь что за это следует по закону, сам знаешь.
- Знаю,- трудно поддающимся голосом подтвердил Андрейка.- А та бумага?
- Я ее сжег, урядник. Еще там, в Новочеркасске. Но на смену ей в свое время появится новая. Розыск - дело такое... Сейчас тебе легче надеяться на снисхождение, ты ведь герой великой войны, урядник. Но закон штука жестокая, и совет мой для тебя один - затаись и молчи.
В эту минуту распахнулся полог шатра, и все, кроме раненых, бросились навстречу человеку, перешагнувшему порог. Кивком ответив на приветствия, он громко спросил:
- Где майор Денисов? Где мой лучший офицер и когда вы его залатаете для последнего сражения и парада в Париже?
- Матвей Иванович,- собрав все свои силы, откликнулся раненый,- я здесь.
Размашистым шагом Платов подошел к койке, отодвинув Андрейку, опустился на пол, сооруженный из наспех набросанных на сырую землю неоструганных досок, прямо на то место, где только что тот стоял. Торжественно-радостное выражение, навеянное взятием крепости и недавним разговором с пленным комендантом Намюра, мгновенно слетело с лица, как только он взял безвольную, холодеющую руку раненого.
- Гриша... Гришутка! - негромко воскликнул Платов.- А я-то не поспешил к тебе сразу.
Денисов, не открывая тяжелых век, слабо пошевелил синеющими губами:
- Матвей Иванович, вы пришли? Простите, Матвей Иванович, не уберегся...
4
В конце лета одна тысяча восемьсот четырнадцатого года донские казаки возвращались домой, в родные степи. Под Дружный непрерывный звон колоколов въезжали в Новочеркасск Войска Донского сыны, герои и победители войны Отечественной. Тугим наплывом стлался этот звон по-над ровной необъятной степью, передавая радость и гордость за победителей и горькую скорбь за тех, кого уже не было в седлах, по ком успели уже выплакать свои слезы матери и вдовы, кого и хоронить-то не довелось на родной земле казачьей.
Солнце неярко светило над полынной степью, иногда куталось в облака, словно и в этот погожий день было ему зябко. Отборные упитанные кони не очень быстро мчали расписанную броскими золотыми вензелями коляску, а в пей сидел в парадной генеральской одежде уже немолодой человек, увешанный орденами и медалями, с одутловатым лицом и глубокими прорезями морщин, оставленных трудно прожитым временем. Человек этот уже не мог скакать в седле, как скакал раньше, делая по двести, а то и по триста верст в сутки, движения его стали тяжелыми и медлительными, и лишь глаза, яркие и стремительные, по-прежнему были молодыми, сверкали затаенной энергией и дерзостью мысли.
За нарядной коляской следовали верховые казаки. Оглянувшись на них в заднее окошко кареты, Платов вдруг подумал о том, что точно так же три года назад уходили конники на войну - полк за полком, сотня за сотней. Но беспокойная мысль подсказала ему, что это было далеко не так. Строй людей, уходивших на войну, напоминал густой, могучий лес. Строй же людей возвращавшихся - лес поредевший. Платов вздохнул и подумал, что мог бы без сожаления отдать сейчас все свои ордена и регалии, и даже графский титул в придачу, если бы мог воскресить этих павших, вернуть их.
Нет, уже не было в первой сотне лихого командира Григория Денисова, не покачивался за ним в седле старый, поседевший, но весь начиненный боевым задором Лука Андреевич Аникин, не развевался по ветру чуб бесшабашного рубаки Дениски Чеботарева. Никогда не пустится в отчаянный перепляс Степан Губарь, потому что и его сразила вражеская пуля. Не нальет себе больше ни единой чарочки Лаврентий Возлюбленный, холодное тело которого захоронено на пути к Парижу.
"Но есть вечный закон, по какому на смену павшим приходят живые, со своими делами, страданиями и радостями,- невесело думал Платов,- и поэтому закону все совершается на земле. Эвон, как ловко сидит в седле заменивший Григория Денисова в решающий момент пришлый! на Дон Андрей Якушев, уходивший на войну в последних рядах конников, а ныне урядник, кавалер Георгиевского креста. Он и сотней командовал на поле боя что надо. У Митьки Безродного до сих пор не сгибается левая рука после осколочного ранения, и опять возвращается этот парень на Дон как сирота - ни одной родной души во всем Новочеркасске. Ни кола ни двора, а друзей хоть отбавляй, потому что открытая душа у Митьки. Надо и об этом герое позаботиться, дать ему кров и работу подобающую".
Над головами ритмично покачивающихся в седлах казаков высоко в небо взлетела величальная песпя, и ее сразу же подхватили всадники всех полков. Сочные мужские голоса с присвистом выводили:
Слава Платову-герою! Победитель был врагам! Слава Платову-герою! Слава донским казакам!
Дикий, лихой пересвист был таким грозным, что казалось: подними руку, подай сигнал - и в любую атаку, на любого самого лютого врага ринутся казаки. И позабудут, что прошли такую тяжкую войну, вытоптали столько своих и чужих полей, совершили множество приступов и атак, оплакали и предали земле столько боевых друзей.
"Странно, а я этой песни еще не слыхивал,- подумал Матвей Иванович.- А ведь это здорово, что про меня такую песню сложили!" Его внимание привлекло широкое улыбающееся лицо молодого казака, ехавшего в четвертом ряду и по-разбойному подсвистывавшего ноющим. Правый его глаз был спрятан под черной повязкой. "Кто б это мог быть таков? - задумался Матвей Иванович, но тут же облегченно вздохнул.- Как же это я опростоволосился? Да ведь это же Гришка Кумшатский, сын того самого Федора Кумшатского, что подстрекал когда-то домовитых казаков воспротивиться атаманской воле и не переселяться в Новочеркасск. Из какого рохли образовался этакий статный парень! И тоже с Георгием возвращается. Одна беда, что никогда больше не воззрится он этим глазом на своего родителя. Вот вою-то в горнице у Кумшатских будет. Ничего, парень вой своего родителя выдержит. Мне вот хуже - перед вдовами оправдательные слова искать".
Матвей Иванович горько вздохнул и задернул над задним окошком коляски тонкие занавески. А впереди, на высоком холме, уже сверкали золочеными крестами купола церквей, виднелись склоны Бирючьего Кута, густо облепленные новыми разноцветными домиками. Платов остановил коляску, тяжело сошел с подножки, встал на колени и отбил три низких земных поклона. Всадники тоже прекратили движение, не зная, спешиваться ли им или оставаться в седлах, но, не получив команды, остались в седлах и замерли. В тишине громко послышались слова, неизвестно к кому обращенные:
- Слава богу, теперь на земле мир. Послужил я и постранствовал по чужбине довольно. Вот и графский титул пожаловали. Теперь возвратился на родину и молю бога: да упокоит он кости мои на земле моих предков.
- Рано, Матвей Иванович, что вы...- вырвалось невольно у Андрея Якушева, ближе других стоявшего к нему.
Платов ничего не успел ответить. С горы подкатила в эту минуту расписная нарядная карета, запряженная четвериком. Из нее ловко выскочил наказный атаман Иловайский, моложавый, щеголеватый, пахнущий заморскими духами, стал во фрунт и отдал честь.
- Ваше сиятельство, герой войны Отечественной, славный наш земляк и атаман всего нашего Войска Донского! Разрешите поднести хлеб-соль от граждан основанной вами новой столицы донского казачества города Новочеркасска.
В эту минуту облачко пыли встало над дорогой и на буланой лошади подскакал к Платову маленький всадник, ловко державшийся в седле.
- Бог ты мой, да чей же ты? - воскликнул Платов.- Да чей же ты, этакий лихой наездник? - И вдруг дрогнул, еле удерживаясь от рыданий.- Ванечка! Внучонок родной мой! Вот до чего достранствовался дед твой в боевых походах, даже тебя не опознал!
Колокольный звон грянул с новой силой, раскатился пад займищем аж до самого Черкасского городка, до Багаевской и Арпачина, и сразу же засветилась гора вспышками, а воздух знобко дрогнул от многочисленных салютов, как пушечных, так и ружейных. Платов помолодевшими глазами обвел встречающих и уже бодро воскликнул:
- Ого! Да так царя еще здесь не славили. А ну, пошли!
Под грохот флейт, труб и барабанов поднимались по крутому Крещенскому спуску лихие кавалеристы. Центр Новочеркасска был запружен нарядной, праздничной толпой. Все население, от босоногих мальчишек до седых длиннобородых старцев, бросилось приветствовать победителей. Смех, ликующие голоса и рыдания сплелись в единый хор. Заждавшиеся казачки хватали под уздцы лошадей, в седлах которых покачивались с далекой чужбины вернувшиеся, усталые, пропыленные, но такие родные и незабытые воины. Те, что даже и приласкать их как следует перед разлукой не успели.
- Матвей Иванович! - весело крикнул Иловайский. -
Смотрите, что делается. Бонапарт не смог донскую силу сломить, а казачки все войско уже растащили. А как же молебен?
- Я за всех за них отслужу молебен,- засмеялся Платов.- Лишь бы завтра по своим полкам явились. А сегодня пусть но домам. Не так уж часто выпадает на долю казака семейное счастье, чтобы им не дорожить!
Андрейка Якушев с глубокой тоской думал о том, как встретится с Анастасией Аникиной и матерью Дениски Чеботарева. Тоска эта была давней. Она заползла в его душу в тот серый, промозглый день, когда лопаты стучали о мерзлый грунт на берегу Березины, роя могилу для Луки Андреевича Аникина и Дениски Чеботарева. Глядя на их спокойные, навсегда окаменевшие лица, уже тогда терзался он мыслью, что если останется в живых, то как трудно будет объясняться с Анастасией и с матерью Дениски, читать в их горестных глазах один короткий невысказанный вопрос: "А ты? Ты как же, Андрейка? Эх, не сберег!"
Но встреча произошла до крайности просто и совсем не так, как он предполагал. Покачиваясь в седле, Андрей медленно ехал по запруженной людьми площади. Тех казаков, у кого не было в Новочеркасске родных и близких, забирали к себе на постой и на добрый ковш медовухи совершенно незнакомые земляки, для которых самый рядовой казак, участвовавший в разгроме Наполеона, был равен сказочному богатырю.
- Эй, урядник! - выкрикнула, обращаясь к Якушеву, раскрасневшаяся подбоченившаяся казачка в нарядном праздничном платье-кубельке.- Разве я плоха? Коли нет у тебя родных, иди ко мне на постой, не ошибешься. Приласкаю что надо и наливочкой досыта угощу отменной.
- Опоздала, красавица,- со смехом отказался Андрей,- СРОЮ родную ищу.
- Ну как знаешь,- незлобиво вымолвила озорная бабенка и растворилась в толпе. И вдруг, словно две тени, одна голубая, другая черная, как из-под земли, появились перед самой мордой фыркнувшего коня Любаша и Анастасия.
- Андрейка! - воскликнули они разом, одна восторженно, а другая печально.
Будто силой какой выброшенный из седла, он очутился перед обеими женщинами, крепко расцеловал Любашу, а потом прижал к себе Анастасию и долго не отпускал, чувствуя, как содрогается от рыданий все ее сухонькое, от горя сдавшееся старости тело. Потом она первая высвободилась из объятий, вытерла заплаканное лицо, и в больших потемневших глазах ее Андрейка увидел ту спокойную твердость, какая лишь донской женщине могла быть под силу в положении Анастасии. Печально щурясь, она вдруг отрывисто промолвила:
- А ведь с Денискиной матерью тебе не придется изъясняться, сынок. Преставилась она, незадачливая. Горевала по Дениске, горевала и преставилась.
- Когда же? - нелепо спросил Андрей, чтобы хоть что-нибудь да спросить.
- Это еще за месяц до того, когда известие пришло, что Дениска погиб, стало быть.- Она внезапно запнулась и негромко, с отчаянием воскликнула: - А как же мой... мой-то Лука Андреевич?
Якушев потемнел лицом и опять прижал к себе зарыдавшую женщину.
- Не надо, тетя Анастасия... не надо,- попытался было успокоить ее Андрейка, но женщина сразу посуровела.
- А откуда ты взял, что я в обмороки падать буду?- тихо, но неодобрительно спросила она.- Радость-то у народа какая! Погляди, как она бушует. Чего же своими слезами ее омрачать. Тем более давно их выплакала. Ох и настрадался люд наш российский от супостата! Как же тут не возликовать? Погляди, Андрейка, делалось ли когда-нибудь такое в Новочеркасске?
Якушев поднял голову и впервые увидел, какое ясное и голубое в этот вечер небо. Где-то за Аксаем, над займищем, подернутое малиновыми перистыми облаками, оно уже начинало темнеть, но от этого не растратило своей привлекательности. Густой теплый воздух лопался от непрекращавшейся орудийной пальбы. Пучки зеленых, красных и синих ракетных огней расплывались над крышами. Анастасия долго вслушивалась в густой колокольный гуд, тихо сказала:
- Дай-то бог, чтобы и сынам и внукам вашим теперь не воевать.
Она думала, что говорит это одним Андрею и Любагае, но ошиблась. Рядом ее слова услышали. Какой-то изрядио подвыпивший пшенично-белый детина, по платью из мастеровых, весело откликнулся:
- Э нет, мать! Насчет энтого не зарекайся. Не туда хватила. Пока живет в казаках силушка, войны завсегда будут. Да и супостаты еще не перевелись, какие на нашу Русь зенки пялят!
Потом они, все трое, шли домой, спускаясь по горбатой, еще недомощенной улице. Любаша вела за повод коня, а Якушев и Анастасия шли в сторонке. Андрей попробовал было рассказать о том, как в лихой атаке почти разом погибли и Лука Андреевич и Дениска Чеботарев, по женщина в черном решительно прервала его сбивчивую речь:
- Погоди, Андрюша, зараз не надо. Дома.
Якушев сконфуженно умолк. В тишине слышалось, как конец его длинной сабли временами бьется о бугорки мостовой, а шпоры сухо чиркают об острые грани булыжников.
Дома, в просторной горнице, Анастасия быстро зажгла с десяток свечей, и сразу стало светло и уютно. Окна горницы выходили на подворье, и виден был сквозь них потонувший во тьме сиротливый белый флигель, в котором раньше жила семья Чеботаревых. Под высоким потолком горницы бродил душноватый, но такой родной запах полыни, что Андрей невольно зажмурился от радости, что он дома. "Как же мне повезло,- подумал он про себя.- Живым возвернулся из такого пекла. Это судьба одному на троих выдала такое счастье. Дениска и Лука Андреевич за мое счастье смертью своей заплатили".
Бледно-зеленые, еще не высохшие веточки дивной донской полыни лежали и на подоконниках и на полу. На широком столе дымилась кутья, стояли острые закуски, горка пышек, хрустальный сосуд с водкой и медно-желтые кубки. Блики от свечей легли на стены. Андрей увидел большой портрет, под которым застенчиво горела лампадка, распространяя ароматный запах лампадного масла. Как-то случилось, что они, все трое, остались стоять перед этим портретом. Он в центре, по левую руку его Анастасия, справа Любаша. А с портрета чуть насмешливо глядел на них из-под жиденькой цепочки бровей до боли знакомый человек. С ним столько было пройдено военных дорог, столько хожено в атаку и попито винного зелья в перерывах между кровопролитными схватками, когда невозможно было заснуть на снегу от лютого мороза, столько переговорено о любимых женщинах и родном доме. И едва ли так гладко сложилась бы его и Любашина жизнь на донской земле, если бы не этот человек, который вместе с Дениской Чеботаревым вытащил их из вспененного, разбушевавшегося Дона, обогрел и обласкал. В тонких чертах его лица, казалось, так и застыла та веселая и всегда добрая к людям, несколько дерзостная задиристость, без которой нельзя представить ни его чуть усмешливого рта, ни узких светло-зеленых глаз, ни лысоватого лба.
Анастасия молча сорвала с себя траурную косынку, швырнула на стул коротким, озлобленным движением.
- Сколько та свинцовая пулька весит, а какую жизнь отняла! Никогда не поверю, что его нет! - воскликнула она без слез и твердой рукой по самые краешки налила в кубки.- Выпьем, дети, не чокаясь. Ведь и правда же, добрым казаком был мой Лука? Так люди полагали. А для меня более верного и достойного мужа не надо было.
- Он у вас в углу как святой, как образ доброты и смелости, тетя Анастасия,- тихо промолвил Якушев, но женщина решительно возразила:
- Зараз не надо про образа. Он же всю свою жизнь безбожником был. В одну справедливость да в великую Русь только и верил. Давайте за него еще по одной, и я в чеботаревский флигель на покой отправлюсь, а вы уж тут сами хозяйничайте.
Анастасия опустилась перед портретом на колени и протяжно заплакала.
5
Уставшая от бурных ласк Андрейки, с широко раскрытыми сияющими глазами лежала Любаша на большой двуспальной аникинской кровати. Рассвет уже успел зарозоветь в ставнях, и на подворье уже заголосили вторые петухи, с займища потянуло свежим ветерком. Она поглядела исподлобья на мужа и негромко рассмеялась. Андрейка так любил эти ее взгляды исподлобья, когда глаза Любаши становились большими и круглыми, а на щеках появлялись смутные морщинки и тотчас же исчезали, совсем как круги на воде от брошенного камешка. Разбегутся, и будто никогда их не было.
- Ты чего? - спросил он настороженно.
- Андрюша... даже верхней рубахи не снял. Хорошо, на ней Георгиевского креста не было, всю бы грудь исколол, герой великого сражения.- Любаша шутила, но глаза ее смотрели на Якушева с таким безграничным восхищением, что огромное чувство радости мгновенно затопило его.
- Конечно, герой,- подтвердил Андрей с готовностью.- Какой же казак не мнит себя героем. Зараз я не буду тебе про баталии много рассказывать. Лучше-ка вот что посмотри...- Андрейка прошлепал босыми ногами по крашеному полу, на ходу скинул рубашку, чтобы больше не вызывать Любашиных насмешек, достал из походного вьюка бережно свернутую бумажную трубочку.
- Что тут? - удивилась Любаша.
- Развертай, не боись.
Любаша приподнялась в постели. Распущенная коса темными ручьями упала на ее голые плечи.
- Какой ты тут красивый,- замирая, прошептала она, вглядываясь в карандашный рисунок, где Андрейка был изображен в полной боевой выкладке на лесной дороге державшим под уздцы коня. Сидя в постели, она долго разглядывала рисунок.
- Это меня под Смоленском сам партизанский командир Денис Давыдов нарисовал. Чудесный барин был.
- Он разве погиб? - наивно спросила Любаша.
- Что ты! Пусть сто лет проживет и не чихнет ни разу. А какой свирепый рубака! Ни одна пуля его не брала. А как солдаты и казаки любили! В огонь за ним шли как один.
Любаша возвратила рисунок и подзадоривающе усмехнулась:
- Ладно, Аника-воин. Полно хвастать.
Якушев поглядел на портрет на стене и отрешенно вздохнул:
- Аникин погиб.- Прижавшись друг к другу, они долго смотрели на портрет.
- Ты знаешь,- сказал Андрей,-мне кажется, что при дневном свете он на нас как-то по-другому смотрит.
- Как же?
- Строже и даже с какой-то злинкой в глазах.
- Неправда,- сердито возразила Любаша,- дядя Лука всегда был добрый-добрый. Он только подшучивать любил.
- Ты бы его в атаке посмотрела,- задумчиво произнес Андрейка.- Когда он с поднятой саблей на французов скакал. Ведь я же свидетель его последних минут. Мы на врага мчались, а он знамя в руке держал. А когда из седла упал, оно выпало. А я это знамя подхватил и всю сотню за собой на приступ повел. И знаешь, что он мне напоследок успел молвить? "Передай Настёнке мое последнее слово: живите дружно".
- Ты вчера не сказал ей об этом? - задумчиво спросила Любаша.
- Еще не успел,- тихо признался Якушев.
- Ты ей обязательно скажи, очень для всех нас важно. А сейчас не надо больше об этом. Они навсегда прошли, эти два страшных года разлуки, и ты снова со мной. Навсегда, навсегда.
Вглядываясь в ее неожиданно посуровевшее лицо, с наметившимися складками в углах рта и тенями под глазами, он вдруг подумал, сколько тревог, горечи и невзгод пришлось и Любаше перенести за это время. На мгновение в мозгу сверкнула мысль: а не рассказать ли этой бесконечно дорогой женщине о том последнем разговоре с умиравшим в лазарете майором Денисовым и о приходившей в войсковую канцелярию розыскной бумаге. Но, заглянув в широкие, вновь ожившие от счастья глаза Любаши, решительно сказал себе: "Нет!"
6
Новочеркасск пробуждался так же рано, как и его предшественник древний Черкасский городок. Городской образ жизни, постепенно входивший в силу, еще не в состоянии был пока победить тот древний, патриархальный ритм, в котором жили от рассвета и до заката все придонские станицы. Однако в новой столице донского края уже твердо наметилось различие между образом жизни окраины и центра.
На окраине утвердился прочный, выверенный десятилетиями сельский темп жизни, на котором воспитывались тысячи казачьих семей. Здесь рано вставали и столь же рано ложились. В маленьких и больших двориках под железными, деревянными и уже совсем редкими камышовыми крышами бытие казачьих семей протекало, как и во все предыдущие времена. На рассвете пастухи выводили общественное стадо пастись в степь или на займище, казачки, закутав от солнца свои лица ситцевыми платками, ревностно копались в грядках или на собственном подворье либо после третьих петухов уходили на бахчи и огороды за разводным мостом, где росли арбузы, дыни, картофель, огурцы и знаменитые, из Кривянской станицы, помидоры, вкуснее которых не было, вероятно, на всем белом свете.
Река Аксай кишела рыбой, каюки и баркасы бороздили ее днем и ночью, а в самые обыкновенные вентери заходили порой не только сазаны, чебаки и сулы, но даже и царская рыба - осетр.
Вечером, принарядившись празднично, шли казаки и казачки целыми семьями помолиться богу - либо в ближайшую церквушку, либо в Вознесенский собор, что стоял на самой главной из городских площадей. Но это в тех случаях, когда хотелось и себя показать и людей посмотреть. Обычно же в поздние часы окраинных жителей редко можно было увидеть в центральной части города. Зато центр уже вовсю жил своею особой, невиданной для станичного казачества жизнью.
Откуда ни возьмись, в Новочеркасск нахлынуло столько дворянства и разных прочих благородных, а больше околоблагородных людей, что простому казаку трудно было пройти по центру без опаски задеть кого-либо локтем. Уже появилось общество донских торговых казаков, дворянское собрание, центр украсился домиками с лепными карнизами и разного рода украшениями на фасадах. Были выстроены дома воинской экспедиции, "гофспиталь" с аптекою, гимназия. По вечерам в лучшем трактире купца Раздорина, открытом специально для господ офицеров на самой главной улице, бойко играл оркестр.
Не дремало и купечество. Из Нахичевани и Ростова ежедневно завозились тюки с товарами, открывались новые лавки и магазины. На жестяных вывесках над входами в них крупными буквами были начертаны фамилии владельцев. В трех или четырех местах появилась и торговля Федора Кумшатского. Большой винный магазин, булочная, скобяная лавка и даже гастрономия, пользовавшаяся большим спросом у представителей благородного сословия. Годы войны мало что изменили в его внешнем облике и навряд ли высекли хотя бы одну лишнюю морщинку на сытом лице. По-прежнему хитровато щурились бойкие, заплывшие жиром глазки и лоснился красноватый нос. Вопреки всеобщему ожиданию, он довольно спокойно перенес ранение сына, потерявшего глаз, лишь скорбно вздохнул и скрестил на груди руки с толстыми, как немецкие сосиски, пальцами.
- Это даже хорошо, сынок, что пролилась на войне кровь Кумшатских. Теперь никто не посмеет слова сказать плохо о нашей фамилии.
Григорий ничего не ответил, только усмехнулся да повязку черную на пустой глазнице поправил. Но когда отец потребовал, чтобы он встал за прилавок одного из принадлежащих ему магазинов, сын сжал побелевшие от ярости губы и кратко возразил:
- Такого никогда не случится. Неужто ты думаешь, что я, кавалер Отечественной войны, превращусь в последнего торгаша? В уме ли ты своем, папаша?
- Ах так! - побагровел Федор.- Жрать и одеваться желаешь, а работать не желаешь? Так и кормись сам, а не сиди на моей шее, чертов сын!
- Ничего. С голоду не пропаду,- зло возразил Григорий и с маленьким сундучком ушел прочь с отцовского двора, а Федор с яростью выкрикнул ему напоследок:
- Еще в отчий дом попросишься, отступник, но я тебя ни за что не впущу! Погибать будешь - куска хлеба не подам.
Но погибать Григорию не пришлось. Узнав про домашнюю размолвку старого и молодого Кумшатских, сам Платов велел Григорию явиться на аудиенцию и коротко сказал:
- Воевал ты достойно, а потому я, как бывший твой командир корпуса, обязан, вопреки твоему деспоту отцу, пожелавшему тебя унизить, проявить о тебе заботу.
Его взяли в войсковую канцелярию на должность, положили приличное жалованье, и неделю спустя, наняв самый дорогой фаэтон, Григорий заехал в отчий дом забрать оставшиеся пожитки. Словом, он покинул отчий дом, а торговля Федора Кумшатского шла своим чередом.
Вечером, как только гасли на западном склоне Бирючьего Кута последние зарницы, в городском парке начинал играть оркестр Атаманского полка, а на главной улице вспыхивали два стройных ряда фонарей, точь-в-точь таких, какие были на любом петербургском проспекте, и лишь после полуночи угасали. Слово "кабак" уже не употреблялось жителями центра, потому что вместо жалких, замызганных кабаков с засиженными мухами стенами и драными скатертями появились довольно приличные трактиры с завлекательными названиями: "Европейский", "Золотой якорь", "Донская", "Гранд-Отель". Хитрые казаки, дабы привлечь побольше покупателей, выдавали себя за иностранцев, и по городу появлялось на вывесках бесчисленное количество звучных фамилий: "Пивной зал Роллера", "Колбасная Лозе", "Копдитерская Квинга".
В вечернюю пору на центральной улице города всегда раздавалась французская речь, хотя ни одного француза в списках коренных жителей здесь не значилось. Просто офицеры, вернувшиеся с полей войны, с упрямой настойчивостью, даже при самом плохом произношении, норовили изъясняться по-французски, желая во всем смахивать на столичную знать.
В трактирах хлопали пробки из бутылок шампанского, и офицеры, увешанные Георгиевскими крестами, под звон хрусталя вспоминали Бородино и горящую Москву, переправу через Березину и бой под Вильно. Нижние чины и рядовые, казаки и урядники, увешанные солдатскими Георгиями, тоже вспоминали Бородино и Березину и даже Париж, где обогатили жителей лаконичным словом "бистро", но хрусталем при этом не пользовались, а с не менее удалым звоном чокались гранеными стаканами и, смущаясь своего неумения говорить по-французски, предпочитали пить не в лучших трактирах, расположенных в центре, а в погребках и пивных, процветавших на окраинах Новочеркасска.
Почти ежедневно возникали ссоры и драки по поводу и без повода. Офицеры хватались за сабли и быстро опускали их в ножны. Нижние чины уж если размахивались, то доводили начатое дело до конца и били друг друга задубелыми кулаками до той поры, пока их силой не разнимали товарищи, а после этого братались, обливаясь кровью и пьяными слезами.
7
В те же примерно дни шумная офицерская компания пировала в гостинице "Европейская". В тостах не было недостатка. Пили и за императрицу, и за самого августейшего, и за одну из его любимых фрейлин, близким знакомством с которой хвастался вертлявый голубоглазый двадцатидвухлетний хорунжий Жмурин, веселый, ладно сложенный блондин.
- Она в меня какое-то время как кошка была влюблена! - восклицал Жмурин.- Только обстоятельства не позволили сблизиться.
Один из друзей не совсем уверенно заметил: - А может, ты зря столь неосторожно выражаешься? Не дай бог, дойдет до самого.
- Ну и что же,- весело перебил его Жмурин.- Я - Александр, и он - Александр. А Александр Александра обидеть не может.
Все расхохотались. Жмурин действительно был красив. Он уже в Новочеркасске успел обратить на себя внимание влиятельных дам. Жена полицмейстера была от него без ума, супруга местного богача армянина Арутинова тайно ее ревновала. Но обе вместе зеленели от злости, когда на благотворительных вечерах Жмурин приглашал на первую кадриль молоденькую дочь генерала Иловайского.
В Новочеркасске Жмурин был случайным, заброшенным сюда судьбой человеком. Казак лишь по происхождению, родившийся и выросший в Санкт-Петербурге в семье высокого чиновника, по доброй своей воле ушел он на войну с одним из донских полков, а после ее завершения действительно одно время служил при дворе, но за попытку вызвать на дуэль какого-то сиятельного князя был выдворен из Петербурга и очутился в крайне далеком от него Новочеркасске.
Когда донской атаман распечатал препроводительный конверт и оглядел стоявшего навытяжку хорунжего, на лице у него появилось неудовольствие.
- Лично я дуэлянтов не терплю,- произнес Платов строго.- По глубокому моему разумению, русский офицер отвагу свою должен не на дуэлях, а на поле брани доказывать.
Прибывший не шелохнулся, только в голубых его глазах сверкнула насмешливая дерзость.
- Ваше сиятельство,- без тени смущения ответил он,- осмелюсь заметить, что я и на поле брани ее доказал. Мне кажется, об этом свидетельствует солдатский Георгиевский крест, коим я награжден.
- Гм... гм...- озадаченно покашлял Матвей Иванович, любивший смелых и дерзких людей.- Уж больно остер на язык, как погляжу. Имейте в виду, хорунжий, не всем такая острота нравится и не всяк начальник станет за это продвигать вас по службе.
- Я за чинами не гонюсь, служу родине честно и бескорыстно,- отчеканил довольно смело Жмурин.
Платов покачал головой, сдерживая улыбку.
- Ладно, братец, назначаешься в наш атаманский конный полк. Ступай с богом, да служи исправно.- А когда закрылась за молодым офицером дверь, рассмеявшись, сказал Иловайскому: - Видал каков? Двадцать два года, а успел и за Бонапартом погоняться, и боевой крест заслужить.
- Красавчик,- неопределенно ответил Иловайский.
...Жмурин с шиком раскупоривал бутылку за бутылкой. Пробки с треском взлетали в расписной потолок, в голову то одного, то другого розового ангелочка, и надо сказать, мятежный хорунжий попадал в них довольно метко. Пенная струя с шипением лилась в бокалы.
- Господа! - призывал он своих собутыльников.- Еще дюжину за мой счет, сегодня я угощаю.
- А почему, собственно говоря, ты? - недоверчиво спросил его хорунжий Чуркин, коренной казак из станицы Усть-Белокалитвенской.- Ты - наш гость, а мы - сыны батюшки тихого Дона. Это нам положено платить.
- Ерунда! - прервал его Жмурин.- Я сегодня самый счастливый человек, оттого что побратался с вами. Я сегодня ради вас готов что угодно сотворить. Все, что хотите.
- Хотим! - закричал плечистый, телосложением похожий не на офицера благородных кровей, а скорее на кузнеца или прасола есаул Баландин.- Всенепременно хотим! - Он уже успел к благородному шампанскому прибавить целый стакан водки и был пьянее других.- Стало быть, ты нас любишь, Александр?
- Люблю! - громко повторил свое признание Жмурин.
Подняв слипающиеся веки, есаул вперил в молодого хорунжего тяжелый, уже малоосмысленный взгляд.
- А чем ты нам можешь доказать, что любишь?
- Двенадцать бутылок шампанского сейчас выставлю!- пылко воскликнул Жмурин.
Есаул порицающе погрозил ему пальцем:
- Не та жертва.
- А какое же вам, есаул, требуется доказательство?
- А вот если любишь,- сонным голосом пробормотал Баландин,- то проскачи во имя этой любви от начала и до конца по всей центральной улице. Сможешь?
- Что? - весело перебил Жмурин.- Да хоть сейчас.
- Нет, обожди,- остановил его мрачно Баландин. -Просто так проскакать любой может. Ты, дорогой Александр, в знак подлинного уважения к нам, донским казакам, голым проскачи через всю улицу. А? Вот и не можешь. А еще о любви говорил.
Собутыльники дружно расхохотались, но Жмурин ударил кулаком по столу и яростно закричал:
- Да как вы смеете! Вы еще не знаете хорунжего Жмурина. А ну, ведите сюда коня. Алексашка Жмурин вам сейчас покажет.
- Вот это гусар так гусар! - захохотал есаул Баландин и хлопнул себя по загорелой шее тяжелой ладонью.- Вот это характер! Да за такую проделку мы тебя, мои шер, будем до самого утра шампанским потчевать. Лично я за собственный счет дюжину выставляю.
- К черту! - выкрикнул Жмурин.- Держать пари, так на все двадцать четыре бутылки, иначе откажусь.
- Давай на двадцать четыре,- согласился есаул под всеобщие ликующие возгласы.
А дальше было все как в чаду. Кто-то кому-то сказал, кто-то куда-то сбегал, и не успели оглянуться гуляки, как к дверям трактира уже подвели оседланного коня.
- Давай, Саша! - одобрительно сказал один из дружков.- Мы тебя прикроем, пока будешь раздеваться, а на улице не столь страшно, там уже темно, брат.
Дружки окружили хорунжего плотным кольцом и стали неторопливо раздевать. Жмурин отчетливо запомнил, как бегал вокруг них, держа его хромовый сапог за ушко, седой швейцар дядя Вася и увещевающе бормотал:
- Господа, я вас очень прошу, отложите свою дерзкую выходку. Христом богом прошу. Да что же это вы делаете, господа!
- Изыдь! - легонько оттолкнул его тяжелым локтем есаул.
На мгновение заартачился и Жмурин.
- Панталоны на мне вы, может быть, все же оставите,- просительно заговорил он, но есаул решительно сделал отвергающее движение:
- Не пойдет. В панталонах каждый дурак может проскакать... Ты голым должен, дружище. В костюме Адама. Снимай!
- Ну ладно,- с отчаянием отмахнулся Жмурин и скинул последнюю часть туалета, роднившую его с цивилизованным миром. Кто-то похлопал его по крепкой смуглой спине.
- Хорош! Ни дать ни взять Аполлон Бельведерский. Ему бы спящую Венеру сюда!
Кружок друзей разомкнулся и дал Жмурину дорогу к выходу.
- Ты, Сашок, быстренько. Легкий променад туда и обратно, - гудел ему на ухо есаул.- А потом мы моментально во все одежды облачим.
Был тот час, когда сумерки еще не наступили. На главной улице только зажглись фонари. Два потока горожан, прогуливающихся по обоим ее тротуарам, заметно начинали густеть. И случилось то, чего еще никогда не видывал и не увидит больше уже древний Новочеркасск. Из самого фешенебельного трактира, какой только был в ту пору в столице области Войска Донского, на главную улицу вышел совершенно голый человек, на ходу похлопывая себя по сильным бедрам с той неторопливостью, с какой это делает купальщик, заходя в реку. Лошадь повернула к нему морду и, казалось, презрительно фыркнула. Голый человек ровным счетом не обратил на это никакого внимания. Заученным движением он поставил ногу в стремя и перекинул в седло свое тело на глазах у обалдевшей публики. Дамы ахнули, но взоров от него не отвели. Наоборот, как впоследствии рассказывали очевидцы, жена негоцианта Арутинова закрыла двумя пальчиками уста и, провожая пылким взглядом атлетическую спину хорунжего Жмурина, довольно громко воскликнула: "Ах, душка!" А жена полицмейстера лишь горько вздохнула, мысленно сравнивая его античную фигуру с дряблой и тучной фигурой собственного супруга.
Вся улица затихла, и удаляющийся цокот копыт прозвучал как артиллерийская канонада. А Жмурин быстро проскакал по мостовой до конца улицы, услыхал запоздалые крики полицейских: "Лови, держи!"
Обратно он перевел коня на галоп и так неожиданно остановил его у входа в трактир, что снова оставил позади растерявшихся преследователей, толком не знавших, вернется ли голый человек к тому месту, где его впервые увидели.
Друзья быстро облачили Жмурина в его платье и усадили за длинный стол, где уже стояла батарея бутылок шампанского.
Утром полицейский начальник подал рапорт атаману Войска Донского о нашумевшем на весь Новочеркасск происшествии. Платов был в отменном расположении духа и не произнес никаких порицательных слов, хотя хмурая складка на какое-то время и задержалась на его челе.
- Скажите, милейший, а как по этому поводу выразились наши дамы, на глазах у которых сие происшествие произошло? Имели они какие-либо претензии к хорунжему Жмурину или нет?
- Что вы, что вы, ваше сиятельство,- растерялся полицейский начальник.- Не только не имели, но даже совсем наоборот. Они в один голос заявили, что хорунжий хорошо сложен, красив, имеет белое тело и что будет весьма прискорбно, если этого шалуна заключат под арест с содержанием на гауптвахте.
- Вот как! - кряхтя, промолвил Платов.- Ну что же. В таком случае давайте поверим дамам, ибо никто лучше, чем дамы, не разбирается во всех тонкостях красоты мужского тела.- С этими словами Матвей Иванович обмакнул перо в чернила и косо начертал на рапорте: "Хорунжего Жмурина простить".- Есть еще что-нибудь у вас, милейший?
- Так точно, ваше сиятельство. Еще один рапорт о недостойном поведении хорунжего Палявина.
- В чем оно выразилось?
- Сей молодой человек, побывав в Париже, долгое время сеял слухи о предпочтительности французской моды перед русской. С этой целью он демонстративно дефилировал по улицам столицы Войска Донского в причудливом шапокляке, во фраке с хвостом и брюках в обтяжку, подчеркивающих его мужские недостатки. Повсюду, где бы ни появлялся Палявин, за ним бегали ватаги мальчишек, кричавших собакам: "Куси, куси!" - и кончилось тем, что дворовые псы напали на оного хорунжего в переулке, оторвали у фрака хвост, а узкие заморские панталоны до того располосовали, что дамы при встрече с Палявиным краснели и сторонились.
- Это плохо, если дамы перестают уважать русского офицера, - сердито заметил Платов. - Впрочем, какой же он русский, ежели не вылазит из платья заграничного покроя. Я тоже побывал за границей достаточно. И в Париже, и в Лондоне, однако шапокляков не ношу и не потерплю, чтобы русский офицер становился пугалом. Давайте-ка сюда ваш рапорт.- Пробежав глазами убористый текст, Матвей Иванович начертал на рапорте о поведении Палявина: "Очевидно, бедняга сошел с ума, что нарядился в костюм, званию сумасшедших токмо присвоенный. А потому направить оного хорунжего в гофспиталь на принудительное излечение, если выяснится, что он потерял рассудок".
8
Целую неделю прогулял Андрей Якушев, обходя по очереди всех своих ратников-однополчан. Сколько историй было, за это время пересказано, сколько добрых песен донских перепето! Он едва поспевал помочь с утра Любаше и Анастасии по хозяйству, выполнить самую тяжкую мужскую работу, а потом спешил в Атаманский полк отметиться о своевременном появлении на службу и сразу же получал увольнение. Командир Атаманского полка коротко приказал:
- Кавалеров Георгиевского креста ни в какие наряды по конюшне и по штабу не назначать, в караулы не ставить. Пусть целый месяц в честь победы гуляют. Заслужили.
И Андрей, вместе с другими ветеранами Атаманского полка, исправно пользовался этой поблажкой. Но однажды, в пятницу, он едва успел побриться, начистить сапоги и облачиться в форму урядника, как у ворот их дома послышался грохот колес и хриплый голос извозчика: "Тпру, милая!" Выскочившая из дома Любаша возвратилась в крайнем возбуждении.
- Андрейка, там тебя требуют. И знаешь кто? Сам атаманский писарь Спиридон Хлебников. От завтрака отказался, в дом войти - тоже. Говорит, чтобы немедленно.
- Значит, неспроста,- заволновался Андрей.
Спиридон сидел на новеньких лакированных дрожках. Годы войны мало его изменили, разве что вот малость состарили немного. Но на фронте Хлебников вдруг почти совсем перестал кашлять и настолько поправился, что всякие слухи о чахотке немедленно прекратились. Станичники шутили: "Это он той мазью от чахотки лечится, какой Бонапарт пятки смазывал, чтоб от казаков ноги унести. Бонапарту она не помогла, а нашему Спиридону как нельзя лучше".
Увидев Якушева, Спиридон важности на себя напускать не стал, приветливо улыбнулся.
- Торопись, парень. Сам атаман тебя кличет. Лошадь, разворачиваясь назад, опоясала круг и помчала дрожки к центру.
Атаман Войска Донского сидел в своем новом вместительном кабинете. Он лишь сдержанно кивнул седой облысевшей головой в ответ на громогласный рапорт Андрея о том, что "урядник Атаманского полка явился по приказанию". В руках у Платова, уже по-старчески пожелтевших, Андрей увидел толстенную книгу.
- Здравствуй, урядник,- обратился к нему донской атаман, не предлагая садиться.- Знаешь, какая книга в моих руках?
- Никак нет, ваше сиятельство,- ответил Андрей, которому Спиридон Хлебников успел шепнуть, что теперь Платов очень любит, когда, обращаясь к нему, не забывают о графском звании, в которое он был возведен царем Александром.
- Садись, урядник, в ногах правды нет,- кивнул Матвей Иванович на стул с мягкой обивкой, украшенный замысловатыми серебряными вензелями.- Грамоте ты-то хоть обучен?
- Обучен, ваше сиятельство.
- Где и кем?
- Еще в барском имении старый конюх дед Пантелей грамоту показал. А потом Лука Андреевич Аникин учение продолжил, книжки разные читать заставлял.
В широкие окна кабинета вливался солнечный день. На чернильном приборе из чистого серебра - подарке англичан - играли блики. На стене, что высилась за ссутулившейся спиной Матвея Ивановича, висели два огромных, маслом исполненных портрета. С белого выхоленного коня надменно смотрел такой же выхоленный император Александр. Холодные глаза царя неприятно и отчужденно глядели на Андрея, не суля ничего хорошего, возбуждая в душе неосознанное беспокойство. Якушев перевел взгляд на соседний портрет и сразу оттаял душой. Михаил Илларионович Кутузов, любимый солдатами фельдмаршал, был полной противоположностью. Единственный зрячий глаз с широкого доброго лица словно лучился мудростью и сочувствием. Чудилось, фельдмаршал вот-вот подморгнет: дескать, мол, чего же ты, урядник Якушев, робеешь перед своим атаманом, веди себя смелее!
- Лука Аникин грамоте обучал, говоришь? - отрывисто спросил Платов.- Это отрадно. Не сберегли мы его, урядник. Скольких героев не сберегли. А как ты думаешь, Якушев, могли бы сберечь или нет?
- Нет,- смело ответил Андрей.- Где война, там и жертвы, ваше сиятельство.
- Верно рассуждаешь,- хмуро согласился Матвей Иванович.- Однако для меня потеря Аникина - особая потеря. Это равносильно тому, что брата потерять. Он да отец Дениски Чеботарева... если бы не они да не их мудрые советы, мы бы не беседовали с тобой сегодня и сидел бы в этом кресле какой-нибудь другой атаман. Это они спасли меня от разгрома в битве на реке Калалалы.
- Я знаю,- осторожно вставил Якушев.- Нам с Дениской Чеботаревым Лука Андреевич много раз рассказывал об этом... Если бы я успел, я бы в том бою дядю Луку своим телом закрыл.
- Верю,- тихо проговорил Платов и снова зашелестел страницами книги.- Однако, брат, давай вернемся к этому фолианту, что держу я в руках. Сия книга выпущена для прочтения во всех школах и высших учебных заведениях России. С одобрения самого государя императора, между прочим. На, полистай и открой ее на триста двадцать первой странице. Эта книга посвящена подвигам нашего русского воинства в Отечественной войне против Наполеона.
Якушев бережно взял из рук донского атамана толстенный том в зеленом позолоченном переплете. "Зачем бы это?" - недоуменно подумал он и стал переворачивать плотные страницы. На дорогой меловой бумаге нарядный шрифт читался легко, безо всяких усилий. Слева, в самом начале некоторых строк, стояли крупно впечатанные броские буквицы. Каждая буква, с которой начиналась глава, была увенчана небольшой яркой виньеткой.
- Нашел триста двадцать первую страницу,- объявил урядник.
Платов сцепил перед собой ладони с крепкими заскорузлыми пальцами, привыкшими держать и саблю, и ружье, и повод коня с одинаковой уверенностью, и кивнул поседевшей головой.
- Так,- одобрительнб протянул он,- а теперь пройдись по этой странице глазами сверху вниз, останови их на второй заглавной букве. Это будет, кажется, "А".
- У вас отличная память, ваше сиятельство,- нерешительно заметил Андрей.
- Еще бы! - совсем уже весело подхватил Платов.- Была бы плохая, я бы ни одного сражения не выиграл. Нашел букву "А"? Вот и читай оттуда.
Андрей увидел под заглавной буквой небольшую картинку: сквозь черные облака разрывов с копьями наперевес скачут на конях казаки. Первый держит над головой знамя кавалерийского полка. Платов улыбнулся, отчего на его усталом, поддавшемся времени лице сразу появились глубокие старческие складки. Старость подкрадывается к человеку незаметно. Сколько проскакал на своем веку Матвей Иванович, в каких только переходах не участвовал, сколько раз напоминала ему о себе смерть визгом картечи, артиллерийских снарядов и пуль, а он отмахивался и бесшабашно говорил: "Коль пропела - значит, не моя!" Сколько ночей пришлось ему провести у бивуачных костров, а то и просто на снегу в ожидании приказа на штурм. Кто другой мог бы выдержать такое количество бессонных ночей в одиночке Петропавловской крепости, куда был он заточен сумасбродным царем. А ристалища и кубки вина, выпитого под самые разные тосты, но всегда во имя отечества и такого ему родного донского казачества! Не из всего ли этого состояла его жизнь, и не все ли это привело к тому, что в один прекрасный день, поглядев в зеркало перед бритьем, грустно самому себе признался Матвей Иванович: "А ведь я же уже старик!"
- Ну что же ты застыл, урядник, как изваяние? Читай.
- Я сейчас,- откликнулся неуверенно Андрей, пробегая в это мгновение первую строку, чтобы начать чтение без запинки.- "Атаманский полк донских казаков первым вырвался к берегам реки Березины, где Бонапарт намеревался дать решительный бой, дабы пресечь русское наступление. Полк наступал лавой. Первый вражеский редут атаковала сотня майора Денисова. Сам Денисов был ранен в руку и вышел из строя. Знамя от него принял донской ветеран, герой боев с ханом Гиреем, штурма Измаила и других неприятельских цитаделей, пятидесятивосьмилетний Лука Андреевич Аникин. Но и его в этом бою настигла смерть. Захлебываясь кровью, Аникин упал на землю, успев крикнуть своему воспитаннику, пришедшему на Дон из Воронежской губернии и за особые заслуги посвященному в казачье звание, Андрею Якушеву: "Знамя бери! Место занимай командирское!" И тогда, проявив невиданную храбрость, Андрей Якушев подхватил упавшее на землю знамя, издал призывный клич: "За мной!" На полном скаку сотня врезалась в боевые порядки неприятеля и обратила его вспять. Сам Якушев зарубил саблей двух гренадеров".
Платов порывисто поднял голову, усмехнувшись, спросил:
- Так было?
- Все точно, как по писаному,- подтвердил Андрей.
- Читай дальше.
- "За сей боевой подвиг солдат Андрей Якушев был возведен в звание урядника, а позднее награжден Георгиевским крестом".
- Вот видишь,- мягко улыбнулся Платов,- теперь слух о тебе дойдет до самых отдаленных земель российских. Поздравляю, урядник.
Андрей вытянулся по швам, стукнул каблуками и на весь кабинет рявкнул:
- Рад стараться, ваше сиятельство!
- И вот еще что,- продолжал Матвей Иванович тихим, умиротворенным голосом, любуясь радостным возбуждением Якушева,- конюшня при нашей войсковой канцелярии уж больно разрослась. Четверо дрожек, экипажи, пролетки, две коляски, карета моя да верховых лошадей около двух десятков. Долго я прицеливался, кого бы сделать старшим, и вспомнил про твою благородную привязанность к лошадиной породе. Никогда не забуду, как в день основания Новочеркасска ты на скачке первым на Ветерке пришел. Всем нос натянул, даже самым лихим моим наездникам. Хочу тебе дело предложить. Будешь у меня старшим по конюшне с оставлением в списках Атаманского полка в звании урядника. Неволить не стану. Можешь давать согласие, можешь нет. Ты у меня человек почетный, могу и другую службу тебе найти, ежели данная не по душе.
- Премного благодарен, ваше сиятельство,- обрадовался Андрей,- меня эта работа больше всего устраивает. Разрешите вопрос задать?
- Спрашивай.
- А Ветерок сейчас живой?
Лицо у атамана просветлело и от этого сразу перестало казаться землистым. Даже морщины на нем как-то разгладились.
- Вот ты какой! Помнишь, стало быть, своего любимца?
- Еще бы, Матвей Иванович.
- Живой. Однако состариться уже успел изрядно, пока мы Наполеона от Москвы восвояси провожали, одряхлел, зрением стал слабеть. Пожалуй, под седлом ему больше не ходить. Подумай, как его дальше использовать. А теперь иди, потому как более не задерживаю, ибо дел уйма непеределанных ожидает.
Андрей откозырял и опрометью бросился домой. Любашу он пашел в летнем сарайчике над деревянным корытом с грудой отобранного для стирки белья. Белая мыльная пена, пузырясь, стекала с ее обнаженных рук.
- Любаша, вот я новость принес, обомлеешь! - с порога выкрикнул он.
- Подожди, прервала жена.- Сначала я тебе новость скажу, да такую, что по сравнению с нею другие ништо. У нас будет маленький!
- Какой такой маленький? - не сразу взял в толк Андрейка.
- Ребенок, - засмеялась Любаша. - Теперь понимаешь?
Якушев остановился как вкопанный.
- Ты... ты понесла? Ой как мы этого ждали! Как мы с тобою этого ждали!
Любаша, всплакнув, прижалась к нему, отводя глаза, норовила спрятать на широкой груди просиявшее от счастья лицо...
Они долго стояли над корытом, пока Любаша не спохватилась:
- Ой, я же тебе мундир мыльной пеной заляпаю!
- Ерунда! - отмахнулся Якушев.- Не отходи от меня, я сейчас как помешанный. Радость-то какая привалила.
Но Любаша молчать уже не собиралась.
- Нет, подожди,- сказала она властным голосом.- Теперь ты объяви свою новость.
- Может, потом,- попытался было увильнуть Андрей, но жена настаивала. И тогда он ей все рассказал о книге, которую давал ему читать Платов.- Любаша, это так здорово! - восклицал он, не сдерживая радости.- Сам царь повелел во всех уголках России читать эту книгу о нашем боевом походе. Надо тете Анастасии все рассказать. Ведь там про Луку Андреевича красиво как все отписано. И про меня, шутка ли! Во всех уголках России будут теперь знать, что есть на свете житель Воронежской губернии Андрей Якушев, какой не посрамил чести донского казачества.
- Андрейка! - внезапно перебила Любаша, и голос ее пресекся тревогой.- Там так и написано, что ты - Андрей Якушев, пришедший на Дон из Воронежской губернии?
- Ну да,- подтвердил он.
Любаша вздрогнула и побледнела.
- Ой, Андрейка! А что, как эту книгу прочтут в Зарубино?
9
Бедная Любаша была близка к истине, хотя, как впоследствии выяснилось, книгу о подвигах русского воинства на полях Отечественной войны 1812 года в деревне Заруби-но никто не прочел. Ни постаревший управляющий Штром, ни двоюродный племянник Веретенникова, в собственность которого перешло имение и который добросовестно его пропивал и проигрывал в карты, ни тем более дед Пантелей, старый конюх, благословивший в свое время восемнадцатилетнего Андрейку бежать на Дон. Слишком много было на просторах царской России подобных деревень и слишком мал тираж этой книги. Все произошло значительно проще, чем можно было предположить.
Среди многочисленных подчиненных графа Разумовского был и Константин Федорович Рысаков, отставной полковник, исправный работник, "звезд с неба не хватавший", по выражению самого графа, но ревностный в делах, строгий и пеподкупный, благодаря чему он успешно руководил выездными ревизиями, чем и снискал себе вполне оправданное уважение.
Однажды в холодный январский день, когда пешеходы горбились от ветра, проходя по Литейному и Невскому, а на Неве даже потрескивал скованный тридцатиградусным морозом лед, осыпаемый целыми тучами снежной пыли, Рысаков попросился к графу на прием. В большом, холодном и неуютном кабинете с окнами, выходящими на Литейный проспект, фигура самого Разумовского казалась безнадежно затерянной. Перстом указав на глубокое мягкое кресло, граф благосклонно сказал своему неожиданному визитеру:
- Прошу, моя шер,- но тотчас же поправился, вспомнив о том, что на одном из приемов император Александр с холодной улыбкой сказал заслуженному генералу, обратившемуся к нему по-французски: "Ваше превосходительство, русскому генералу ныне не подобает говорить на языке побежденных!" - Прошу, мой друг, садитесь.
Но Рысаков продолжал стоять, держа в левой руке толстую книгу в зеленом переплете.
- Ваше сиятельство, дело, по которому я бы хотел к вам обратиться, не позволяет излагать его сидя.
- Как изволите,- не без удивления пожал плечами граф.
Узкое лицо Рысакова приняло суровое и решительное выражение. Углы широкого рта дрогнули, густые, кустистые брови мохнатыми шапками прикрыли глаза. Сглотнув от волнения слюну, Рысаков сбивчиво заговорил:
- Светлейший граф, я пятнадцать лет отдал военной службе и, как вам известно, вышел в отставку в чине полковника. Во время войны с Наполеоном служил при нашем Главнокомандующем фельдмаршале Кутузове.
- Это все мне прекрасно известно,- поморщился Разу
мовский, не желавший, чтобы визит затягивался. Уловив его настроение, Рысаков немедленно поправился:
- Я буду краток, ваше сиятельство. Вероятно, вы не знаете, что в Воронежской губернии существует имение За-рубино.
- Где ж мне про все имения знать,- пожал плечами Разумовский, и седые его брови насмешливо всколыхнулись над глазами.- Но вы не обращайте на сию реплику решительно никакого внимания. Продолжайте, мой друг.
- Это имение принадлежало моему товарищу, отставному капитану Григорию Афанасьевичу Веретенникову. Десять лет назад он был убит в своей спальне собственным крепостным Андреем Якушевым, коему удался побег. Узнав об этом, я поклялся не успокаиваться до тех пор, пока убийца не будет найден. Ныне я знаю, где надо искать убийцу. Вот, прочитайте.- Рысаков раскрыл книгу на триста двадцать первой странице и протянул графу. - Дабы не утруждать себя, ваше сиятельство, прочтите лишь то, что отчеркнуто красным карандашом.
Разумовский поднес к глазам лорнет, гнусавым голосом прочел:
- "...Аникин упал на землю, успев крикнуть своему воспитаннику, пришедшему на Дон из Воронежской губернии и за особые заслуги посвященному в казачье звание, Андрею Якушеву..." Подождите, мой друг,- оторвался от текста Разумовский,- но откуда вы взяли, что именно этот Якушев совершил преступление?
- Сомнений быть не может, ваше сиятельство,- прижимая раскрытую книгу к груди, словно это была икона, на которой он хотел поклясться, произнес Рысаков,- его все эти десять лет наш сыск по всей России-матушке ищет. Я по этому делу справки наводил не однажды. Сыскная бумага и на Дон посылалась, да только исчезла бесследно, и даже ответ не пришел.
Разумовский долго молчал. Лоб, иссеченный морщинами, покрылся мелкими каплями пота.
- Дело очень сложное,- вымолвил он наконец.- Книга для чтения, что вы мне изволили преподнести, выпущена с величайшего одобрения государя императора. Это во-первых. А во-вторых, этот самый Якушев за подвиги произведен в урядники и награжден, как я понимаю, Георгиевским крестом.
- Да! - резко воскликнул Рысаков.- Пусть произведен в урядники, пусть награжден крестом. Но ведь от этого убийцей быть он не перестал!
- Не перестал,- врастяжку ответил Разумовский и забарабанил костяшками пальцев по столу. Память вернула ему все детали ставшей уже далекой поездки в Новочеркасск: высокомерные усмешки и остроты донского атамана Платова за пышной трапезой в честь основания новой столицы Войска Донского, подробности скачек. Графа бог памятью не обошел, и сейчас с поразительной ясностью он представил себе белогривого взмыленного жеребца с черной звездой во лбу и рослого темноглазого парня, сидевшего на нем. "Несомненно! - вспомнил граф.- Несомненно, его фамилия была Якушев. Так вот в чем дело! Якушев после совершенного им злодейского убийства бежал на Дон, а Платов, не зная об этом, его пригрел. Какая удачная возможность сбить спесь с этого зазнавшегося донского божка".
- Хорошо, - произнес граф Разумовский вслух. - Полагайте, что мои симпатии на вашей стороне. Чувство мести, которым вы сейчас объяты,- святое чувство. Попытаюсь доложить императору.
- Спасибо,- смиренно проговорил Рысаков и поклонился,- вы благороднейший человек, ваше сиятельство.
С ведома Аракчеева единожды в месяц граф Разумовский допускался в кабинет императора Александра I с кипой безотлагательных дел. Об иных он только информировал императора, по другим докладывал предполагаемое решение, третьи, наиболее важные, передавал для личного прочтения. На этот раз Александр был в дурном расположении духа. В поенном мундире, тяжелом от российских и иностранных орденов, скрестив на груди руки, он медленно вышагивал поперек огромного зала от стены к стене, поворачиваясь на каблуках, зло вызванивая сверкающими серебряными шпорами. На глубокий поклон Разумовского царь ответил лишь легким кивком. Доклад графа он, однако, слушал внимательно и пристрастно. Несколько раз перебил короткими репликами, против двух решений категорически возразил и, наконец, нетерпеливо спросил:
- Это, надеюсь, все?
- Есть еще одно несколько необычное дело, по которому мною написан рапорт, - нерешительно ответил Разумовский и, так как император молчал, быстро заговорил: - В апреле одна тысяча восемьсот пятого года в селе Зарубино Воронежской губернии был убит хозяин этого имения помещик Григорий Афанасьевич Веретенников. Крепостной крестьянин Андрей Якушев, совершивший дерзкое преступление, бежал на Дон, и в течение десяти лет след его был потерян. Розыскная бумага, посланная еще в Черкасск, по непонятным причинам была потеряна...
- Позвольте, граф,- резко перебил Александр,- неужто отныне вы намерены отнимать у императора время докладами по каждому уголовному делу? Разве вы не осведомлены, как надо в подобных случаях поступать?
- Рискну заметить, ваше величество,- раболепно поклонился Разумовский,- здесь совершенно особый случай. Дело в том, что оный крепостной Андрей Якушев, совершив побег на Дон, обманным путем втерся в доверие к самому атаману Войска Донского Платову и за участие в войне восемьсот двенадцатого года был им возведен в чин урядника и представлен к награждению Георгиевским крестом, коий и получил.
В большие окна дворца порошей била зима, за стеклами стонал ветер, порывами налетавший с закованной в лед Невы. Легкий скрип царских сапог, впечатывающих шаг Александра в сверкающий паркет, гулко разносился по залу.
- Ну и что же? - спросил царь ледяным голосом.
- Граф Матвей Иванович Платов человек опрометчивый, - быстро продолжал Разумовский, - он может вспылить, возразить против ареста...
Шаги Александра замерли. Он поднял на Разумовского холодные голубые глаза и, отягощенный какими-то своими неприятностями, раздраженно произнес:
- Законы великого государства Российского превыше всего. Они обязательны и для меня, его императора, а следовательно, и для графа Матвея Ивановича Платова, которого я безгранично уважаю за храбрость и преданность. Подайтека сюда ваш рапорт, сударь.
Царь внимательно прочел короткий текст составленного Разумовским донесения и размашисто на нем начертал: "Взять под стражу. Доставить в Воронеж. Судить!"
10
Гремя бубенцами, запряженная четвериком карета въехала на широкий двор войсковой канцелярии. От лошадей, утомленных длительным переходом, поднималось облако белесого пара. Был ранний утренний час, и все кабинеты еще пустовали. На крыльцо выбежал дежурный, молоденький, туго перепоясанный ремнями сотник. По забрызганному грязью заднику кареты и жирным ошметкам перемешанного со снегом чернозема, застрявшего в спицах, он сразу определил, что путь у приехавших был долгим и трудным. Первая неделя марта в донской степи часто бывает оттепельной. Лед на мелких речках буреет и вспухает, снег сползает с макушек древних курганов, а заодно и на равнинах остаются огромные пролысины. Дороги становятся ужасно трудными как для пешего, так и для конного.
- Откуда путь держите? - спросил дежурный по войсковой канцелярии у немолодого багроволицего подполковника, с кряхтением спрыгнувшего на землю с высокой ступеньки кареты. Тот выпрямился и, отряхивая с шинели засохшую грязь, неодобрительно покосился на ладного казака.
- Прежде чем задавать старшему вопрос, положено попросить на то разрешение, подпоручик.
- А я вовсе и не подпоручик,- сияя безмятежной улыбкой, ответил дежурный.- Я - сотник.
- Это роли не играет,- буркнул приехавший, поняв, что попал впросак.- Должен сообщить, что я - подполковник Лунев и прибыл к вам по распоряжению самого государя императора.
Как бы в подтверждение его слов из кареты выпрыгнули два рослых жандарма при ярких поясах и саблях.
- Так ведь атамана Войска Донского графа Платова пока еще нет, - несколько оробело пояснил сотник.
- Это значения не имеет, - небрежно ответил нежданный столичный гость.- Немедленно приведите ко мне урядника Якушева.
- Андрея?- почти весело переспросил сотник, вновь нарушая все нормы уставного обращения. - Он у нас теперь войсковой копюшней заправляет. Зараз я его покличу, господин подполковник. - И с этими словами сотник бросился к длинной приземистой постройке с низко нахлобученной крышей, откуда доносилось приглушенное конское ржанье.
...Андрей Якушев был в этот день охвачен каким-то умиротворенно-радостным состоянием. Как-то все ладилось у него в последнее время. Любаша ходила уже на седьмом месяце. Он и предположить не мог, как это обрадует сникшую от горя, никогда не рожавшую Анастасию.
- Милые детушки! - восклицала она часто. - Вы и подумать не можете, какая я сейчас хожу просветленная. Ведь совсем было духом сникла оттого, что Луку моего сердешного на войне убило и Марьюшка Чеботарева померла. А Любаша зараз такую для меня радость приберегла. Да ведь я за вас сама ребеночка вынянчу. Лучшей бабки ему и не надо будет.
Глухой ночью под свист ветра, старательно облизывавшего угол дома, выходящий на две улицы, крепко обнявшись иод одеялом, мечтали Андрейка и Любаша, как будут купать своего первенца, каких распашонок и чепчиков ему нашьют, какое он первое слово скажет. Они проговорили почти до рассвета. Потом на какой-то фразе речь Любаши стала замедленной, и, недоговорив, она провалилась в сон. Андрей поцеловал ее, как маленькую девочку, и, не став будить, ушел из дому. Он всегда уходил на службу в форме урядника Атаманского полка и с гордостью носил на груди Георгия. В конюшне его уже ожидали конюхи. Надо было распределить работу на день. Он и себе оставил часть общего дела, потому что никогда не чурался труда. На одной из пролеток надо было заменить спицу, и он бойко взялся за работу, когда на пороге появилась фигура дежурного.
- Якушев, там тебя какой-то подполковник из Питера требует. Говорит, от самого царя.
- Вы, наверное, ошиблись, - спокойно возразил Андрей.
Обтерев тряпкой огромные, покрасневшие на холоде ладони, он вышел во двор и увидел карету, забрызганную грязью, а у нее - тучного краснолицего подполковника и двух жандармов. И у Андрея от горького предчувствия тоскливо сжалось сердце. На крыльце, что вело со двора в войсковую канцелярию, рядом с дежурным сотником уже стояло несколько зевак. "Только бы не при всем народе", - пугливо подумал Андрей, но подполковник Лунев приблизился к нему, дохнул в лицо винным перегаром и бесцеремонно выкрикнул:
- Урядник Якушев?
- Так точно, ваше высокоблагородие.
- Бывший крепостной деревни Зарубино Воронежской губернии?
- Так точно, - побелевшими губами подтвердил Андрей.
- Ты убил помещика Григория Афанасьевича Веретенникова? - еще громче гаркнул полицейский подполковник, а два жандарма вытянулись во фрунт.
Андрею вдруг показалось, будто свинцово-серое низкое небо валится на него, а крыльцо войсковой канцелярии со стоящими на нем людьми кренится набок, как накренился когда-то у черкасского берега от страшной волны плот, на котором они с Любашей спасались. В горле стало сухо. Он попытался проглотить слюну, но не смог. И ему показалось, что нет сейчас ничего в мире, кроме красного незнакомого лица и ненавидящих выпученных глаз.
- Именем государя императора ты арестован! - рявкнул Лунев и кивнул выжидающим жандармам: - Взять его под стражу!
Два жандарма бросились к Якушеву, схватили его грубо за плечи, с треском сорвали погоны. Андрей стоял, безвольно склонив голову. В густых волосах таяли падавшие с неба снежинки. Но когда один из жандармов протянул руку, чтобы сорвать Георгиевский крест, лицо его внезапно побелело, а глаза полыхнули бешенством.
- Не смей! Ты мне его не давал. Я за него кровью заплатил на поле боя!
Двумя могучими руками он разбросал в разные стороны жандармов, так что один из них задом шмякнулся в мокрый снег.
- Взять! - вторично закричал подполковник Лунев, и жандармы опять бросились на Андрея.
В эту минуту на широкое подворье войсковой канцелярии сытые кони внесли расписанный вензелями возок, из которого медленно вышел грузный человек в длинной шинели и золотых эполетах.
- Что здесь происходит? - нахмурившись, спросил он резким голосом.
Подполковник жандармерии мгновенно узнал этого человека по многочисленным портретам.
- Ваше высокопревосходительство господин атаман Войска Донского...
- Я еще и граф, - оборвал его неприветливо Платов. Подполковник жандармерии мгновенно поправился и, не отнимая руки от виска, продолжал:
- Докладывает подполковник Лунев. Я прибыл сюда с ведома государя императора с надлежащим препроводительным пакетом, дабы взять под стражу опасного преступника, беглого крепостного крестьянина Андрея Якушева. Десять лет назад он убил своего помещика дворянина Веретеннико-ва, после чего бежал на Дон.
Одинокая фигура Якушева, стоявшего без пояса и погон посреди двора, казалась жалкой и безвольной. Сжимая тяжелые кулаки, он понуро смотрел не то на носки своих сапог, не то на хлипкий, пропитанный грязью снег с четко впечатанными в него следами от колес и саней. Всякая воля к сопротивлению покинула его большое, сильное тело. Платов с удивлением вгляделся в раздавленного тоской и горем человека.
- Ты убил? - спросил он наконец.
- Да, - тяжело ответил Андрей и не поднял на него глаз.
- Не может быть! - ахнул Платов. - И никому не сознался?
- Да, - кивнул распатланной головой Якушев. Лунев победоносно взглянул на донского атамана.
- Разрешите заковать его в кандалы? - самоуверенно справился он.
Предупрежденный о строптивости донского атамана, жандармский подполковник любовался его растерянностью, понимая, что всю операцию с арестом урядника надо завершать немедленно, пока Платов находится в шоковом состоянии.
- Действуйте, - приказал он жандармам, и те опять приблизились к Якушеву. Один достал потемневшие от времени наручники.
- Нет, подожди! - вскричал вдруг Платов, и лицо его полыхнуло гневом. - Здесь пока один я распоряжаюсь. Давай-ка сюда цареву грамоту, господин хороший, - бесцеремонно ткнул он пальцем в Лунева. - А ты следуй за мною в кабинет, урядник. Да подпоясаться не позабудь, тебя еще никто пока не разжаловал. А вы, - крикнул он жандармам,- а ну-ка, немедленно водворите на его плечи погоны! Кто имел право без моей на то воли их срывать? - грозно поглядел он на подполковника.
Когда Якушев привел себя в порядок, Платов молча взял у Лунева пакет с сургучными печатями и двинулся к крыльцу. Не поднимая головы, Андрей поплелся за ним. Лунев подумал-подумал и тоже сделал несколько не очень уверенных шагов следом. Но Платов резко оборотился и весь вспыхнул:
- А ты куда? Когда будешь надобен, сам позову.
В богато обставленном заморской мебелью просторном атаманском кабинете был маленький, парчой темно-красного цвета обтянутый диванчик с отделанными под золото изогнутыми ножками, на котором любил, в часы горестей или радостей либо когда надо было со всех сторон обдумать принятое ответственное решение, отдыхать Матвей Иванович. Скинув генеральскую шинель и небрежно бросив ее в кресло, он сел на этот диванчик и кивнул Якушеву, неприятно пораженный его растерянностью, покорностью, землистым цветом лица и готовностью ко всему:
- А теперь садись рядом и рассказывай. И чтобы начистоту до каждого слова было. И не торопись.
Очевидно, рассказ его занял очень много времени, потому что, когда он закончил, небо за окном уже не было таким беспросветно серым - в нем появились голубые проталинки, а в них засверкало солнце. Платов сидел с непроницаемым лицом, подперев ладонями виски, будто они у него очень болели.
- Страшная история, парень, - вымолвил он тихо. - Страшна она не тем, что ты убил, а потом бежал к нам в наивной вере, что с Дона выдачи нет, не ведая о том, что донская вольница давным-давно скончалась. Страшна эта история твоею участью, Андрейка, и страданиями твоими, как прошлыми, так и будущими! Ведь если разобраться, барин твой Веретенников подлец подлецом и ты был прав, когда за честь любимой вступился. Но закон есть закон, а по закону ты уже десять лет числишься беглым убийцей.
- Я это понимаю, Матвей Иванович, - упавшим голосом согласился Андрей.
Платов на мгновение оживился:
- Скажи, мой друг, а конь с черной звездой во лбу, на котором ты бежал, не мой ли Ветерок часом был?
- Его тогда Зябликом звали.
- Вон оно что! То-то я замечал, что это имя с твоих уст не однажды срывалось. - Платов взял в руки пакет, неторопливо его вскрыл перламутровым длинным ножом для разрезания книг, просыпав при этом сургуч от печатей на ковер, дважды перечитал короткий рапорт графа Разумовского и знакомым почерком начертанную на нем резолюцию: "Взять под стражу. Доставить в Воронеж. Судить!" Потом прочел эти слова Андрею, тихо сказал: - Плохо твое дело, парень. Есть обстоятельства, что превыше меня, и в их числе - воля нашего государя. Ведь я же его верный слуга. Все, что пока я могу сделать, это подать прошение о смягчении приговора, вплоть до оправдания за давностью свершенного, потому как ты, георгиевский кавалер, того заслуживаешь. И я это немедленно исполню, верь моему слову, урядник. Но освободить тебя сразу... не отдать в руки правосудия... этого и я, Матвей Платов, не в силах.
- Спасибо, Матвей Иванович, - ответил Андрей глухо, - я знаю силу закона. Она у меня на спине барской плеткой навек прописана. И то знаю, что судить меня будут по закону. Но Любаша! Она же ни в чем не повинна. Неужто и с нею поступят жестоко? Она ведь матерью стать собирается.
Платов отрицательно покачал головой.
- Ее не тронут. В этом я клянусь.
Андрей поднял голову. Убитое горем его лицо на мгновение просветлело. Взгляд стал успокоенным и твердым.
- Я верю, - прошептал он подавленно. - Как хорошо, что будет именно так, ваше сиятельство. А я запираться на суде не стану. Что было, то было. Но если бы снова все точь-в-точь так же сложилось, я бы своего барина Веретенникова и во второй бы раз подсвечником стукнул. А теперь одному погибать мне куда будет легче. Лишь бы Любашу не тронули.
- Почему же погибать? - удивился Платов. - Тебе после подвигов во имя отечества - и погибать! Дадут несколько лет каторги, потом снизят по моему ходатайству, а то и совсем освободят!
- Не в том дело, Матвей Иванович, - горько возразил Якушев, не зная, куда девать большие беспокойные руки. - Был урядник Якушев, и нет урядника Якушева. Велика ли беда. Страшно другое. Страшно, что и после смерти душу твою терзать будут, как к бутылке с горькой водкой, ярлык убийцы к тебе приклеят. Любашу изведут. Сынишка или дочка вырастет, а ему или ей в глазенки святые и чистые тыкать станут: мол, знаешь, что твой отец - душегуб. Спасибо вам, Матвей Иванович, за все доброе, что для меня сделали. Но не подумайте, что такой я тупой и лишен возможности понять, что не можете и вы от позора меня избавить лютого. Любашу не оставьте в беде, ваше сиятельство, - еще раз попросил он.
Андрей еще более побледнел, глаза его наполнились сухим блеском, и весь он стал похож на большого сильного зверя, изготовившегося к прыжку.
- Дозвольте последнюю просьбу, Матвей Иванович?
- Я тебя слушаю, Якушев, - мягко ответил Платов.
- Мне бы с конем проститься, с Зябликом, а потом и в дальнюю дорогу.
- Сходи, - согласился атаман. - А попутно кликни мне старшего жандарма.
- Вот что, братец, - небрежно сказал Платов Луневу, демонстративно не предлагая ему садиться. - За своеволие, выразившееся в том, что ты без моего на то ведома пытался арестовать урядника, подчиненного лично мне, тебя бы стоило строго наказать. Но что поделаешь, - Матвей Иванович вяло махнул рукой, - любая воля государя императора для меня, его верного слуги, - закон. Урядник Якушев уедет вместе с вами, подполковник, а следом я пошлю в Санкт-Петербург своего курьера с рапортом, в коем буду просить всемилостивейшего нашего монарха и. повелителя Александра Первого о снисхождении к этому подлинному герою Отечественной войны.
...Выйдя во двор, Андрей стремительно промчался мимо зевак и двух остолбеневших жандармов. В конюшне было пусто. Лошади хрустко жевали сено. Знакомый запах навоза, кожи и пота теплой волной ударил в лицо. Андрей закрыл на деревянный тяжелый засов широкую дверь, перевел дыхание и медленно прошагал в дальний угол конюшни, куда еле-еле дотягивался из узкого, высоко прорубленного оконца слабый лучик дневного зимнего света. В этом углу находилось еще одно живое существо, которое всегда могло его понять а утешить.
Андрей приблизился к Зяблику и тихо его окликнул. Конъ перестал жевать, выжидающе поднял голову с черной выцветшей звездой во лбу, посмотрел на него красным водянистым глазом и коротко заржал. Андрей обхватил руками его голову, прижался к теплой морде щекой.
- Ты же меня понимаешь, Зяблик? - прошептал он до крайности тихо. - Ты бы тоже на моем месте не мог поступить иначе. Ты знал меня молодым и сильным, а теперь видишь сломленным. Ты спасал меня от смертельной погони и когда-то на казачьей скачке первого примчал к призу. Ты все должен понимать, так что прости меня, Зяблик. - И Андрей подумал о том, что кто-то непреклонно-жестокий провел в его жизни последнюю разграничительную черту. Но почему же "кто-то"? Царь! И по одну сторону этой черты осталась его прежняя жизнь, а по другую будущая, та, что начнется с той минуты, когда карета с двумя жандармами и с этим самым их начальником Луневым помчит его в Воронеж, в острог. Он сейчас с удивительной четкостью разделял эти две половины своей жизни. В первой из них, насчитывающей десять лет, была заключена вся его молодость, от восемнадцати до двадцати восьми. Перед его глазами промчалась целая вереница людей, добрых и светлых, с какими он встречался: дед Пантелей, Митрий Бакалдин, Сергей Чумаков, Лука Андреевич и Дениска, Анастасия и майор Денисов и мудрый, хотя и не всевластный, атаман Платов.
В этой короткой половине было много горького, но и много прекрасного, и прежде всего Любаша, побег на Дон через разлив, основание Новочеркасска и атака под Березиной, штурм Намюра и, наконец, ожидание ребенка и ликование оттого, что не иссякнет теперь никогда род Якушевых. И если бы ради всего этого действительно понадобилось бы вновь убить жестокого помещика Веретенникова, рука бы у него не дрогнула.
По ту, другую сторону разграничительной черты были полосатый арестантский халат, тюремная камера, допросы я долгий марш в кандалах к месту заключения: то ли на север, то ли в Сибирь, самую что ни на есть далекую, где раньше всего встает неласковое солнце. Нужны ли эти годы тоски и страданий? Ведь и потом, если он выживет, найдутся люди, которые, не зная ничего толком, будут тыкать пальцем вослед, произнося короткое слово: убийца! И растворится у всех в памяти герой Отечественной войны 1812 года георгиевский кавалер урядник Андрей Якушев. Останется лишь отбывший срок наказания каторжник.
Андрей еще раз прильнул лицом к лошадиной морде, подавленно вздохнул и, успокаиваясь, подумал: "А ведь если меня не будет, то и судить-то некого. Значит, и бедной Любаше не понадобится свидетельствовать в суде, и будет навсегда спасена ее честь человеческая, и не опоганено имя".
- Прости меня, Зяблик, - проговорил он вслух. - Ведь если разобраться, ты - вся моя жизнь и судьбина. Прощай, но поступить по-другому я не могу.
Из груды сваленных в углу седел, попон и остальной сбруи Андрей выбрал самые крепкие вожжи, посмотрел на темную балку, провисавшую над головой, и стал вязать петлю.
11
Когда, закончив всю беготню, связанную с оформлением препроводительных на арестованного Якушева, подполковник жандармерии Лунев вновь переступил порог атаманского кабинета, Платов неохотно оторвал глаза от стопки бумаг на своем письменном столе.
- Давай подпишу, служивый, - брезгливо поморщился атаман и обмакнул в чернильницу перо.
В эту минуту из войсковой конюшни донесся отчаянный конский вопль. Лошадь захлебнулась тонким, пронзительным ржанием, к которому примешался и топот, не оставлявший сомнений в том, что она мечется теперь по конюшне, наводя ужас на шарахающихся от нее соседок. Опытный конник, Платов тотчас же узнал, кому принадлежал этот высокий, беспокойно-вибрирующий звук.
- Это же Ветерок! - воскликнул генерал-лейтенант. - Неспроста он!
Платов потянулся за колокольчиком, чтобы послать кого-нибудь на конюшню узнать, в чем там дело, но в эту минуту в кабинет без спроса ворвался бледный до синевы писарь Спиридон Хлебников, схватившись за седые виски, закричал:
- Ваше сиятельство!.. Матвей Иванович! Там, на конюшне, урядник Якушев повесился!
Платов медленно и тяжело, как человек, получивший страшный неожиданный удар именно тогда, когда меньше всего этого ожидал, опустился в кресло. Но многолетняя привычка как в бою, так и в мирное время стойко встречать любые потрясения выручила его и на этот раз. Опираясь на подлокотники, он выпрямился над столом, увидел перед собой красное, с заплывшими глазками лицо подполковника жандармерии Лунева и вдруг, объятый яростью, на мелкие куски разорвал принесенную на подпись подорожную и, показав две дули белому как мел жандарму, воскликнул:
- Накося! Не увезете вы теперь в воронежский суд Андрея Якушева. Некого теперь судить за этого подлеца и развратника Веретенникова. Да и вы покидайте-ка побыстрее нашу донскую землю!
Когда Матвей Иванович вышел на крыльцо, Якушев лежал на снегу, с бледным, удивительно чистым и успокоенным лицом. Лекарь, суетившийся подле мертвого, уже укладывал свой чемоданчик. Весь двор был забит невесть откуда набежавшими казаками. Они тесным кольцом окружили и мертвое тело, и забрызганный грязью экипаж, к которому в смертном страхе жались перепуганные жандармы. Кольцо сжималось, и голоса над землей, покрытой липким февральским снегом, звучали все грознее и грознее.
- Самого верного друга я потерял! - рыдал Сергей Чумаков. - Да неужто мы это так и спустим негодяям, которые погоны с его плечей рвали?!
- Станишники! -- взметнулся тонкий голос Митьки Безродного. - Что я гутарю. Давайте мы энтих пришельцев под аксайский лед вместе с фаэтоном спустим, в первую прорубь. Пускай нашей донской водички досыта нахлебаются.
Платов властно поднял руку.
- Казаки! - выкрикнул он, и все стихло. - Не в мести дело. Мы - сыны царя-батюшки и обязаны выполнять его волю. Клубок лжи и горя вокруг урядника Якушева мы бы распутали, и его оправдали. Но Андрея Якушева теперь нет в живых. Обнажим головы перед телом героя Березины и Намюра урядника Якушева, сына Дона тихого, и пусть он навечно останется в наших сердцах и думах. А теперь расходитесь!
Толпа с глухим недовольным ропотом отхлынула со двора. К Матвею Ивановичу подошел все еще бледный Лунев, дрожащим голосом произнес:
- Ваше сиятельство, не знаю, какими словами и благодарить. Вы спасли жизнь и мне, и моим подчиненным. Не могли бы вы дать для безопасности нам людей, хотя бы на первые полсотни верст обратного пути?
- Людей лишних на Дону нет, - жестко отрубил Платов. - А безопасности ежели хотите, так уповайте на резвых коней и быстроту, с которой вы покинете нашу донскую землю. Рекомендую скакать во весь опор да в светлое время.
12
Платов думал: "Какая же маленькая песчинка один человек в огромном море людском, что населяет Россию! Вот наложил на себя руки урядник Якушев, и те самые люди, что занимались его судьбой, разыскивали, докладывали самому императору Александру, примчались из Петербурга сюда, на Дон, чтобы сорвать с него погоны, опоганить честь и славу героя войны, в какой на карту были поставлены слова: Россия или Бонапарт, пытались обрядить в полосатый арестантский халат, - все эти люди, кто через месяц, а кто и значительно раньше, забудут его, а человеческое море будет существовать и дальше. Но возьмет ли в нем когда-нибудь верх справедливость и то доброе отношение к человеку, о котором твердят нам духовники? - И он тяжко вздохнул, понимая, что не сыщет на этот вопрос ответа. - Я выигрывал и проигрывал сражения, отступал и наступал, обращал в бегство вражеские полки и дивизии, а вот храброго человека Андрея Якушева защитить не мог. А царь даже мертвого негодяя, его мучителя барина Веретенникова, защитил через целое десятилетие после его гибели и меня, слугу своего верного, атамана донского, не спросил, а надо ли это делать, О-хо-хо-хо-хо!"
Вечерний мороз замысловатыми узорами разрисовывал окна его кабинета. Но наледь была еще слабой, багровое закатное солнце ее пробивало. Наступил тот час, когда атаман садился в возок и уезжал домой, в имение, подаренное ему на хуторе Мишкине, что был расположен верстах в пяти от войсковой канцелярии. Вошел мрачный высокий жилистый Спиридон Хлебников, угрюмо сообщил:
- Лошади поданы, ваше сиятельство. Только там, в приемной, вас женщина одна дожидается.
Платов поморщился и укоризненно заметил:
- Спиридон, я же сказал, что никого не принимаю.
- Ее вы примете, - угрюмо возразил Хлебников. - Это Анастасия, вдова Луки Андреевича Аникина, у ней в доме Якушев на постое находился.
- Ее зови, - вздохнул Платов, - для нее мои двери всегда раскрыты.
Анастасия перешагнула порог и быстрыми мелкими шагами устремилась к нему. Была она в бархатной короткополой шубенке, уже порядком поношенной, и черных, с блестящими застежками сапожках, подаренных Андрейкой после возвращения из похода. В темных сухих глазах горела немыслимая скорбь. Не спрашивая разрешения, она опустилась на стул, убитым голосом сказала:
- Отец наш родной... батюшка Матвей Иванович, да что ж это происходит на божьем свете... Любаша скончалась!
- Какая Любаша?- недоуменно привстал в своем кресле Платов и увидел, как задрожал подбородок у этой когда-то красивой, а теперь седой и совершенно увядшей женщины.
- Любаша, жена Андрейки Якушева, - шепотом пояснила Анастасия.
Платов схватился за грудь и осел. Впервые за долгую жизнь так сильно заныло и застонало сердце. Стулья, приставленные к стенам, книжные шкафы, окна и подоконники поплыли в глазах, раздвоилась горестная фигура Анастасии, и Матвей Иванович неожиданно подумал, что он, в сущности, уже никакой не герой, а одряхлевший старик, жить которому осталось так мало. Словно из небытия доносился до странности спокойный голос Анастасии, временами сбивавшийся на шепот:
- Да как же, Матвей Иванович? А я-то думала, тебе это уже ведомо. Дурная весть, она как перекати-поле. Узнала Любаша про конец Андрейки и грянулась оземь. А потом родовые схватки пошли... ее в больницу, как можно скорее. Мальчик жив, а она, как видите... - И Анастасия все же заплакала. - Вы добрый, Матвей Иванович, - сказала она, наконец справившись с рыданиями. - Разрешите ребенка усыновить, а то начнут его таскать по приютам. А я одна, на всем белом свете одна... ни Луки моего горемычного, ни Андрейки, ни Любы.
- Да, да, - через силу промолвил Платов. - Конечно, усынови. И пособие на него из атаманской казны будет. Я распоряжусь.
- Вот и спасибо за доброту твою, Матвей Иванович, - низко поклонилась Анастасия и с тяжело опущенной головой покинула кабинет.
Платов очнулся от вторичного возгласа Спиридона Хлебникова:
- Ваше сиятельство, лошади поданы.
Высокий и чахлый Спиридон развернул генеральскую шинель. Платов долго тыкал руками в воздух, прежде чем попал в рукава. На студеном ветру ему стало легче. А когда кони рысисто вытащили возок на центральную улицу и помчали по ней, ему стало и вовсе сносно.
Был поздний вечер. Неумолимая часовая стрелка завершала отсчет еще одного прожитого дня. К вечеру оживал центр Новочеркасска. Деловой люд торопился со службы домой, зажигались огни у подъездов. Скрипели на подмерзшем снегу полозья саней, и накрытые полостью барыньки мчались под крики возниц. Бывший солдат на почерневшей деревяшке вместо ноги протягивал на перекрестке руку и просил "христа ради". Чиновники, подняв воротники, равнодушно пробегали мимо, не обращая никакого внимания на его злую тоску. Но вот подошла большая группа офицеров во главе с хмельным хорунжим Жмуриным и отвалила ему целый рубль.
Каждый по-своему устраивался в этом мире. У каждого была своя цель, только у одного поменьше, а у другого побольше, своп радости и невзгоды.
Верст восемьдесят отмахала уже запряженная четвериком жандармская карета, а подполковник Лунев все еще продолжал испуганно поглядывать в заднее окошко, опасаясь, что нагонят его-таки донские казаки и спустят, как и обещали, под лед.
В глухой деревне Зарубино горланила пьяная гармонь, а барский конюх дед Пантелей, стоя под образами на коленях, вымаливал у Христа покой и счастье для им незабытых беглецов Андрейки и Любаши, не ведая, что тех нет уже и в живых.
В Петербурге граф Разумовский придирчиво осматривал наряжавшихся на бал грузных, некрасивых дочерей своих и думал, как бы поскорее их выдать замуж, а бывший полковник Рысаков, играя в вист, представлял, как будет присутствовать в губернском воронежском суде в час, когда дерзкому холопу Андрею Якушеву, поднявшему руку на его собутыльника Веретенникова, вынесут страшный приговор и закуют в кандалы.
Сложно жила Россия, великая и могучая, нищая и страдающая, еще не разбуженная революцией.
Когда сытые кони вынесли возок на самую вершину Бирючьего Кута, откуда было рукой подать до хутора Мишкина и господского дома, Платов приказал остановиться и сошел на дорогу. Внизу на несколько верст окрест сияла горсточка маленьких и больших огней. Он подумал о том, что пройдут годы и этих огней станет во много крат больше и по вечерам они станут заливать своим светом не только равнинную центральную часть Новочеркасска, но и его склоны, потому что и склоны горы будут густо облеплены новыми зданиями. Расстроится во все стороны столица Войска Донского, им основанная и защищенная, только его, атамана, уже не будет.
- А будет ли тогда справедливость? - спросил себя Платов, но лишь вздохнул вместо ответа. И, вглядываясь в еще негустую, резко очерченную цепочку огней, твердо вымолвил: - Пусть люди, что придут вместо нас, будут счастливы!

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'