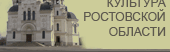
Часть третья. Расплата
Весной 1943 года, когда затухали уже над донскими степями леденящие землю мартовские ветры, в недавно освобожденный Новочеркасск с попутным военно-транспортным самолетом Ли-2, или "Дугласом", как его в ту пору чаще именовали авиаторы, прилетел с юга из госпиталя, в котором долечивался, сержант Вениамин Якушев. Путь его лежал на один из полевых аэродромов, расположенных севернее Тулы, но майор из отдела кадров, подписывавший направление в авиационный полк, узнав, что он из Новочеркасска, милостиво предложил:
- Ли-2 уходит завтра в семь ноль-ноль и будет производить посадку на тамошнем аэродроме для заправки. Можете навестить папу и маму, если они у вас есть. Даю двое суток тебе, парень. А потом, чтобы как штык был в полку.
- В каком, товарищ майор? - задал Якушев тот самый вопрос, какой на его месте задал бы любой возвращающийся после длительного пребывания в тыловом госпитале военнослужащий. - Точнее, на чем там летают? На СБ еще или на Пе-2?
На лице кадровика дрогнула лохматая левая бровь, а вместе с нею и свежая отметина от раны.
- Не на том и не на другом самолете, - усмешливо ответил майор. - На штурмовиках будете летать, молодой человек. На "илах".
- На "илах"?-удивленно переспросил Веня. - Но ведь я же не летчик, а стрелок-радист всего-навсего, а штурмовик "илыошин", как известно, одноместная машина.
- Отстали от жизни, сержант, - вздохнул майор.-Пока вы скитались по госпиталям, наш штурмовик стал двухместным. Его сейчас так и называют в штабных документах: Ил-2. Будете по-прежнему летать в задней кабине, и обязанности те же, что и прежде, только радиосвязи вам вести не потребуется, потому что радиостанции в кабине нет. Поэтому в штабных документах станете именоваться воздушным стрелком, а не стрелком-радистом.
- Та-ак, - озадаченно протянул Якушев.
Прилетев на новочеркасский аэродром, он с удивлением оглядел четкие линии самолетных стоянок, окаймляющих с трех сторон летное поле. Словно по приказу самого строгого старшины, были выстроены малознакомые самолеты, чем-то отличающиеся от тех "илыошипых", на которые он насмотрелся в горькие дни отступления в сорок первом году. "Чем же? - спросил он себя и сразу ответил: - Очертаниями кабин, возвышающихся над фюзеляжем". Кабин было не одна, а две, из задней сурово торчал ствол крупнокалиберного пулемета. Эти кабины горбились под лучами весеннего солнца, пробившего черноту мартовского неба.
За спиной под хрусткими шагами чавкнула раскисшая земля. Веня обернулся. Незнакомый летчик в длинном довоенном реглане, огромный, выше его на целую голову, с крутыми широкими плечами, стоял рядом, сверху вниз глядя на него. С обветренного, задубелого от аэродромных ветров лица насмешливо щурились серые глаза:
- Ну что, технарь, любуешься?
- Я не технарь, товарищ командир, - обиженно поправил Веня.-Я стрелок-радист, а еду после госпиталя в штурмовой полк. Туда как раз и получил назначение.
- А-а, - протянул собеседник. - И на какую же должность?
- Воздушного стрелка.
- Вот и хорошо, - одобрил незнакомец. - Стало быть, наши хвосты будешь охранять. А в какую дивизию служить направлен?
- В восьмую шад.
- Ха! - воскликнул незнакомец. - В мою дивизию, значит?
Веня смешался. За свое короткое пребывание на боевых аэродромах сорок первого года, столь печально закончившееся длительными скитаниями по госпиталям, он ни разу не разговаривал так вольно с командиром дивизии, а своего видел лишь издали, стараясь при встрече как можно лучше отдать ему честь и отбить при этом строевой шаг. А тут все просто, будто бы этот огромный, с широким, задубелым от ветров лицом человек сто лет его знал и допускал самое вольное обращение.
- Это хорошо, что ты ко мне. У нас действительно недокомплект, - растягивая слова, проговорил он. - Машина теперь хорошая. Впрочем, хорошая не то слово. Великолепная машина.
Незнакомец поглядел на него подобревшими глазами и вдруг произнес длинную фразу, состоящую из замысловатых ругательств.
- Кого это вы так? - остолбенело спросил Веня.
- Ильюшина, - вздохнул летчик.
- Так ведь это же великий конструктор, какую машину придумал, - робко возразил Веня.
Набрякшие, опухшие веки низко опустились па глаза собеседника, превратив их в две маленькие щелочки, в которых забушевал непримиримый огонь.
- Великий, - подтвердил он со вздохом. - Но не могу с одной и той же мыслью смириться, и сверлит она меня побольнее любой бормашины, что в кабинете зубного врача, панику на моих летунов больше, чем зенитки, наводит. Ну, как же он с таким опозданием вторую кабину на эту изумительную машину поставил! Скольким бы пилотягам жизнь спас, если бы сразу это сделал! А ведь письмами его на эту тему мы забрасывали. Многие летчики погибли из-за того, что самолет был слепой. Ты идешь на цель, а "мессер" к твоему хвосту пристраивается и спокойно тебя расстреливает. Брата у меня на глазах... Брата родного Ваньку так загубили проклятые "мессеры". Не успел я к нему в тот раз на помощь прийти. А был бы в ту минуту в задней кабине такой вот парень, как ты, ни дать ни взять Иван, может быть, в живых остался. Ну да ладно, поздно теперь панихиду по братану повторять. Слушай, а тебя как зовут-то?
- Вениамин Якушев, товарищ командир.
- Гм... Где-то фамилию такую вроде бы слышал. Ну да ладно. А я командир вот этой самой армады, улетающей на фронт. Подполковник Наконечников. - И он указал на самолетные стоянки. Веня застыл от удивления. Он неожиданно вспомнил, почему лицо этого летчика показалось ему несколько знакомым. В госпитале у них в ленинской комнате на покрашенном охрой фанерном щите была его цветная фотография в листовке, рассказывающей о подвигах штурмовиков.
- Вы Герой Советского Союза?
- Натурально, - подтвердил Наконечников. - Так что можешь пощупать, ежели глазам не доверяешь. Однако жаль.
- О чем пожалели, товарищ подполковник? - осведомился Веня.
- О том, что листовки этой не видел, - пояснил Наконечников и вдруг оглушительно захохотал: - А ведь это здорово. Летаешь, летаешь, от косой все уберечься стараешься, а Родина тебя, маленького человека, не забывает. Значит, слух обо мне пошел по всей Руси великой. По Александру Сергеевичу Пушкину получается. Прощай, сержант, не опаздывай к новому месту службы, там повстречаемся. В авиации часто дорожки пересекаются. В Новочеркасске познакомились, а под Орлом и Курском воевать будем.
Он повернулся к нему спиной и, не протягивая руки, зашагал к самолетным стоянкам. А Веня зашел в БАО и, предъявив свой продаттестат, получил в продовольственном отделе паек по пятой летной норме на шесть суток вперед. С тяжелым, доверху набитым вещевым мешком еле добрел он до выходных ворот. Спасибо, что попутная полуторка подобрала и на тряских своих рессорах домчала до самого завода Никольского, откуда всего три квартала надо было прошагать до родного дома.
Пока он поднимался по крутому спуску, огибая желтую триумфальную арку, когда-то воздвигнутую атаманом Платовым в надежде на приезд Александра Первого, так и не состоявшийся, Веня с интересом разглядывал одноэтажные разноцветные домики, мысленно сравнивая эту улицу с улицами городов и сел, через которые проходили наши войска, отступая в сорок первом к Москве. Сравнивая, устанавливал большую несхожесть. Там, под Москвой, дорога отступления всегда была дорогой разрушений и смерти. На обочинах лежали почерневшие от дыма, изрешеченные очередями "мессершмиттов" грузовые машины, их безмолвные остовы могли сойти за надгробные камни. Улицы деревень были усеяны пеплом от спаленных изб, в жалких армяках и ветхих пальтишках брели по ним погорельцы, просившие подаяния, а на бревенчатых стенах наклеенные плакаты звали красными, как кровь, буквами: "Воин, отомсти!", "Ни шагу назад!", "Родина-мать зовет!".
Здесь же, в Новочеркасске, как и до фашистского нашествия, здания стояли нетронутые и только устрашающие надписи и листовки военного немецкого коменданта, под страхом расстрела запрещавшие появляться на улицах после восьми вечера, под страхом расстрела уклоняться от трудовой повинности, а еще пуще от отправки в Германию и регистрации на бирже труда, убеждали в том, что это спокойствие было лишь призрачным.
На углу Платовского проспекта и Барочной улицы за большими окнами фаслеровского завода по-прежнему грохотал огромный фрикционный молот, только он ковал теперь не люки из чугуна для водопроводных колодцев и не фигурные железные решетки, а траки для подбитых на фронте советских танков, которые еще можно было воскресить для новых атак.
Проходя мимо этого места, Веня невольно вспомнил, как уже много лет назад они, двое босоногих мальчишек, он и Жорка Смешливый, подбегали к этому окну, чтобы передать старшему брату Жорки Мите узелок с завтраком либо с обедом. Бывало иногда, что и первый богатырь на всей аксайской окраине кузнец Ваня Дронов улыбался им оттуда из наполненного грохотом цеха. Продолжая свой путь пешком, Веня вздохнул и ускорил шаг. "Где все они теперь? - блеснула горестная мысль. - Куда разметал их ветер войны, по каким фронтам и окопам?"
А на пересечении Барочной и Кавказской улиц он попридержал шаг, ощущая, как нужна ему эта остановка, чтобы собраться с духом и подавить волнение, прежде чем постучаться в дверь родимого дома.
Издали дом этот являл собой картину полного запустения. Закрытые ставни на окнах, труба, из которой не вырывается приветливый дымок, проломы в деревянном заборе и скрипучая, голая, еще с осени облетевшая дикая маслина. Это впечатление от угрюмого одиночества стариков, живущих в доме, усиливала пустая собачья конура. "Бедная Мурза, - жалостливо подумал Веня. - Мама писала, что старенькая одряхлевшая лайка не дождалась встречи со мной".
Он опустил на выщербленный порог парадного тяжелый вещевой мешок и с волнением вслушался в тишину окраины. По обеим сторонам Барочной улицы, пересекавшей Аксайскую, дома стояли, как прежде, но они сейчас его не интересовали. И только один-единственный отчий дом, на пороге которого он стоял, заставлял с волнением прислушиваться к ударам собственного сердца, к звону в ушах.
"Что там за дверью? Как отец и мать? - теснились тревожные мысли. - Может, никого уже нет. Может, уехали они куда-нибудь из города, а может, угнаны в Германию оккупантами, замучены в застенках, расстреляны?" Все окна на железных засовах. И если бы не белая тряпка, повешенная на веревке во дворе, вероятно недавно выстиранная, Веня твердо решил бы, что родной его дом необитаем. Он повернул рычажок давно заржавевшего звонка, но тот не издал ни единого звука. "Да что же это?" - подумал Якушев и, стараясь победить собственную растерянность, стал колотить кулаком в дверь. Долго никто не отвечал, и он уже потерял всякую надежду, когда из коридора донесся скрип двери и слабый голос, который он узнал бы и через тысячу лет, голос, которому повиновался и который всегда любил, из коридорной пустоты окликнул:
- Кто там?
И тогда радостная теплота забилась в груди Якушева:
- Мама, да это же я. Я, мама, Веня.
- Веня... Венечка... Да я же сейчас открою.
В его памяти заново родился напомнивший детство звук сбрасываемого засова, и фигура матери, хрупкая, маленькая, заметно ссутулившаяся, выросла перед ним.
- Венечка, сыночек мой... жив... - Холодные худые руки Надежды Яковлевны тискали его шею. Чтобы обнять его, она привстала на цыпочки.
Что-то загремело в прихожей, из зала донесся тревожно нетерпеливый голос:
- Наденька, да кто там появился? Почему не говоришь?
- Сейчас, сейчас, - весело ответила мать и подтолкнула Вениамина к этой двери, прошептав: - Еще не забыл, как она открывается?
Опустив на пол вещевой мешок, Вениамин открыл дверь и переступил порог. И случилось самое невероятное. Александр Сергеевич, близоруко щурясь, попятился назад в глубь большой комнаты. Вероятно, неожиданный гость в толстой теплой аэродромной куртке с поднятым цигейковым воротником, в зимней шапке, надвинутой на обветренный лоб, показался ему совершенно неведомым.
- Вы... вы... - растерянно спросил он.
- Батя, - захохотал Веня, - не узнал блудного сына, батя. - Он прижал к себе отца, чуть-чуть оторвал от пола, ощущая легкость похудевшего тела.
- Смотри не задуши! - взмолился старик, глаза которого от назревших слез даже поблескивать стали.
- Ой, не буду, - спохватился Веня. - Совсем позабыл про твою проклятую астму, и кто ее только придумал!
- Веня! - Отец двумя ладонями гладил его по плечам, как и всегда, близоруко щурился: - Да как ты вырос, как окреп! А рана твоя совсем зажила?
- Да как видишь. Если куртку сниму, так и польку-бабочку могу оторвать.
- Фу, - поморщился Александр Сергеевич, - и ты этих жаргонных слов нахватался.
- А куда же от них на фронте денешься, - расхохотался Веня. - С ними, батя, даже в бой идти легче. Однако холодище-то какой у вас в комнатах.
Александр Сергеевич грустно развел руками:
- Что поделать, сынок, последняя коряга осталась. Силенок не хватает ни у мамы, ни у меня ее разрубить. Сам ведь помнишь, какое прочное дерево акация.
- Помню, - грустно улыбнулся сын. - Эх, и сколько же хлопот я вам доставил, когда во вторОхМ классе слетел с нее, а колючка в коленную чашечку впилась! Мама потащила меня к нашему новочеркасскому лучшему хирургу Фуфыркину, а тот изрек: "Надо ему положить гипс на полгода, и пусть лежит неподвижно". А мать взъярилась и ему в ответ: "Вы лучше себе на язык гипс положите". Ну, Фуфыркин, естественно, ее выпроводил, но потом она меня в Ростов повезла к самому профессору Богоразу. Тот рентгеновский снимок поглядел, потом заставил для чего-то раздеться, нагнуться и выпрямиться, да по заднему месту как хлопнет. Вот тогда-то я и убедился, какая тяжелая рука у хирурга бывает. "Как можно больше двигаться,-говорит,- плавать и загорать, вот и все лекарство".
- Ты и это помнишь, Венечка, - прижимаясь к нему, засмеялась мать.
- Еще бы. Ведь теперь Богораз чуть ли не самый главный и авторитетный хирург во -всей нашей армии. Однако хватит мне разглагольствовать. Соловья баснями не кормят. Топор у тебя, мама, в кладовке на старом месте лежит?
Когда прихваченные желтым пламенем дрова стали разгораться в печке, мать грустно сказала:
- Вот и почаевничаем. Там где-то пайка черного хлеба осталась да два кусочка сахару.
- Э нет, - прервал ее сын. - Сегодня не вы меня, а я вас угощаю. По-настоящему, по-фронтовому.
И внес в зал тяжелый вещевой мешок. В это время чайник уже закипел. Веня стал вынимать из мешка и выставлять на стол все, что там было. А было там ой как много для голодного военного времени. И две большие банки свиной тушенки, и сливочное масло, завернутое в белую пергаментную бумагу, и батон колбасы, сгущенное молоко, печенье, банка абрикосового джема и даже плитка шоколада. Да еще две буханки хлеба, вынимая которые Веня, усмехнувшись, сказал:
- А вот это продукт, из-за которого даже войны начинаются.
- Даже войны, - покачал тяжелой лысой головой Якушев. - К какой бы истории мы ни обратились: хоть к старой, хоть к средним векам, хоть к современности. Какая незыблемая закономерность.
Веня любил угощать. Пока он аккуратно, стараясь не нарушить симметрии, расставлял все это на столе, мать в неопрятной черной телогрейке, в которой, очевидно, и мела, и выносила во двор ведра с мусором, колола уголь или дрова, в одетом на голову старом суконном иепманского времени колпаке, из-под которого выбивались густо поседевшие волосы, и отец в подранной на локтях серой фуфайке и старых шлепанцах, надетых на ноги в перелатанных носках, с устремленными на руки сына глазами были похожи на случайно забредших на чужое пиршество людей. Они чем-то смахивали на вокзальных пассажиров, ожидающих поезда и не знающих, когда этот поезд прибудет. Да и на самом деле они сейчас мечтали о том, чтобы скорее потеплела жизнь после черных дней оккупации.
- И это ты все нам, сынок? - наконец удивленно спросил отец. - А сам с чем останешься?
- Не твоя забота, батя, - грубовато ответил Вениамин. - Воздушный солдат всегда найдет корочку хлеба и полфунта масла. Как-нибудь перебьюсь.
После такого неожиданного сытного завтрака Якушевы сразу заговорили о пережитом, сообщали новости, от которых больно становилось у сына на сердце.
- Между прочим, сынок, - тихо и как-то совсем обыденно, усталым голосом сообщила мать, - Ивана Мартыновича немцы в гестапо замучили.
- Какого такого Ивана Мартыновича? - не сразу дошло до Вениамина.
- Да Дронова Ивана Мартыновича, которого твой отец когда-то в институт поступать готовил. Разве ты его забыл?
Вилка со звоном выпала из рук сына.
- Дронова? Ваню Дронова? Нашего аксайского богатыря? Того самого, что жил у железнодорожного полотна и был женат на красавице Липе? - Веня вспомнил могучего атлета с колечками чуть вьющихся волос, всегда спадавших на загорелый лоб, его белоснежную рубашку апаш, открывавшую могучую грудь, и кулаки, огромные кулаки, которыми восхищалась вся уличная детвора, собиравшаяся на заветном бугре.
- А за что его немцы, мама? - тихо, с болью в голосе спросил он.
- Эх, Веня, - вмешался в их разговор Александр Сергеевич. - Таким, как он, памятники ставить будут. Они - это вечная легенда, сынок. Подумать только, что этот добрый покладистый детина с помощью своего паровозного кочегара всю станцию взорвал. Больше десятка эшелонов, из которых два с авиабомбами, были приготовлены па Сталинградский фронт - все в щепки. Несколько суток пожар полыхал, а станция почти на две недели вышла из строя. И это когда? Когда наше наступление и прорыв фашистского фронта под Сталинградом начали готовиться.
Александр Сергеевич погладил коленки на ватных залатанных брюках, а мать тяжело вздохнула.
- Вот и Гриша, брат твой... - прибавила она неожиданно.
- Погиб? - встрепенулся Веня, но она отрицательно покачала поседевшей головой, с которой так и не сняла впопыхах колпак.
- Нет, не погиб, - печально вздохнула она. - Помнишь, мы писали тебе, что он дрался под Таганрогом, ходил в штыковые атаки?
- Под Таганрогом.. В твоем письме этого не было.- И тотчас же прибавил: - Ах да... цензура. Ты больше не указывай города и села.
- Ладно, не буду, - покорно согласилась мать. - Так вот он писал... А когда пришли немцы, мы уже и веру потеряли, что он в живых.
- Откуда же вы об этом узнали?
- Это ты отца вот спроси. Ему немецкий генерал CС говорил.
- Немец? Генерал СС? Ничего не понимаю. Вениамин положил подбородок на ладонь согнутой в локте руки и, застыв от удивления, выслушал подробный рассказ отца о его двух встречах с генералом Флемингом.
- Странно, - промолвил он. - А его самого, этого немца, в плен не взяли?
- Нет, - возразил Александр Сергеевич.
- Непонятно, - пожал плечами сын. - Или этот самый Флеминг тонкий провокатор, мечтавший что-то у тебя выпытать...
- Или? - перебил отец.
- Или они начинают по-настоящему задумываться.
- Над чем, Веня?
- Над неизбежностью своего краха.-И тут же спросил вне всякой связи с предыдущим: - А дружки мои, батя, как? Жора Смешливый, Петя Орлов, Олежка Лукьянченко?
Александр Сергеевич закашлялся и выразительно посмотрел на мать, которая сразу принесла папироску, набитую астматолом. Когда непривычный для постороннего дымок встал над их головами, призрачно распускаясь в комнатном пространстве, отец ответил на вопросы сына:
- Жора и Петя на фронте. Уже письма родители от них получили. А Олег пропал без вести.
- Жалко, - устало промолвил сын.
- Нога твоя как после операции, сынок, бедро? - спросил отец.
- Нога? - Веня сбросил с обеих ног унты, от которых образовались на полу небольшие потеки вешней воды, и, оставшись в одних теплых носках, несколько раз подпрыгнул. - Хочешь, я все-таки польку-бабочку попробую?
- Не сможешь, рано еще, - усмехнулась мать.
- Что? - воскликнул Веня. - Рано? Да я бы в ансамбль песни и пляски пошел, если бы не авиация, а потом во всех анкетах писал: героический и самый активный участник Великой Отечественной войны. Только вот кабина самолета поперек этого встала.
Отец, чтобы прервать этот разговор, кратко сказал:
- Жилетка у тебя меховая какая отменная, сынок. Очевидно, всем летчикам выдают такие.
Веня порывисто стащил с себя телогрейку, вывернул изнанкой наружу.
- Жилетка понравилась, батя? Хороша, как видишь. Да и мех-то какой теплый. Беличий. - Он развернул жилетку мехом наружу и озорно спросил: - Так тебе нравится? Держи. - И с этими словами положил ее отцу на колени.
- Что ты, что ты! - заполошно воскликнул Александр Сергеевич. - Замерзнешь на своих аэродромах без нее.
- Носи, батя, - повелительно произнес Веня. - В прежнем бомбардировочном полку, в котором я войну начинал и чуть было не погиб, закон такой был. Если хороший человек какую твою вещь похвалил, немедленно отдавай, иначе зенитки или "мессеры" собьют. Бери, отец. К новому месту службы с пустым мешком легче добираться.
- Зачем же с пустым? - возразила мать. - Я тебе пышечку из береженой мучицы на дорогу испеку. Помнишь, как ты в детстве любил мои пышечки?
- Это из последней муки, что ли? - усмехнулся сын. Потом он вышел из полухолодного зала на кухню, где уже вовсю бушевал огонь в поддувалах старенькой, но в свое время крепко сложенной печки. Отец и мать, словно конвоиры, встали за его спиной. Скорее всего, им не хотелось даже на секунду покидать родного сына, а может, тоже пришли протянуть озябшие руки к теплу.
Печка была старенькой, как и весь дом. Даже белый кафель над плитой и тот уже был в паутинках трещин.
Веня заговорил сам с собою. "Печка, печка, сколько с тобой связано. Как любили в нашей семье огонь".
И он вспомнил, что на всех ее камфорках почти всегда стояли кастрюли и сковородки с кушаньями, и если снималась одна, то на ее место почти сразу же ставилась другая, кипел белый чайник, потрескивали в поддувале дрова, перемешанные с углем, а отец, сидя на низенькой скамейке, читал им с Гришаткой какие-нибудь сказки.
А ночью в зимние дни, когда было очень и очень холодно и ветер с двух сторон утробно гудел за их угловым домом, как было хорошо, несмотря на родительские запреты, прошлепать босыми ногами к ее пропитанной теплом стене и прислониться спиной, чтобы набраться огнедышащего жара, и лишь потом пробежать к своей кровати и залезть под остывшее одеяло.
Бывало, что за углом их дома со стенами, выходившими на две улицы, выл ветер, а у печки становилось тепло и беззаботно и жизнь казалась лучше, чем она была па самом деле.
Однажды он по неосмысленности поцарапал побелку на печке гвоздем, и отец ему сердито выговаривал:
- Ты, дурень, представь, что было бы с нами, если бы не огонь.
Веня всегда удивлялся, какая огромная печка. Она высилась сначала над его головой, затем, когда пошел в первый класс, стала как-то оседать, стала по плечо, потом по грудь.
Сейчас Веня прислонился к печке и вдруг увидел, что она лишь чуть-чуть выше его колена.
"Какая она маленькая, - улыбнулся Веня. - А впрочем, почему маленькая? Ведь печка осталась такой же, как и была. Это я попросту вырос".
Почти с невесомым вещевым мешком Якушев шел по незнакомому аэродрому, мимо земляных капониров, чем-то напоминавших огромные незастегнутые башмаки. В каждом из таких башмаков стоял новый штурмовик Ил-2. У одного из таких капониров Якушев остановился и, положив вещевой мешок к ногам, долго наблюдал за тем, как механик вставляет в пулемет ленту, в которой проблескивали красно-медные гильзы. Заметив незнакомца, тот бросил на него откровенно-подозрительный взгляд:
- Ты откуда это топаешь, служивый? Что-то я в столовке твоей физиономии не замечал? И чего глаза подобным образом вытаращил?
- Да ты не бойся, - миролюбиво усмехнулся Якушев.- Я твою машину к Герингу угонять не собираюсь.
- К Герингу? - фыркнул механик. - Эка хватил. Да ты-то хоть элерон от ланжероыа отличить сумеешь? Откуда бредешь-то?
- Из госпиталя, - ответил Якушев.
- Из госпиталя, - уважительно повторил за ним пезпакомец. - Где же это тебя прихватило, парень? Надеюсь, не часотка и не аппендицит?
- Да нет, бери выше, - усмехнулся Якушев. - Сначала "мессершмитт" в воздухе поздравил, а потом при бомбежке на земле добавило.
- От как, - вздохнул механик. - Крещеный, значит. И давно это было?
- Еще под Москвой в конце сорок первого.
- От ты, значит, залежался в госпиталях как.
- Как видишь. Кости медленно срастались.
Механик придирчивым цепким взглядом окинул Веню. С его пробитого негустой сеткой оспинок лица медленно сползало выражение настороженности, и голос потеплел, когда он сказал:
- Значит, от как. А чего вещмешок опустелый такой?
- К родителям залетал. На Новочеркасском аэродроме посадку делали, вот и сумел забежать да раздарить все съестное.
- Что же они, живы-здоровы?
- Живы-то живы, только от голода бедствуют. А я вот в ваш полк назначение получил.
- Жрать сейчас сам-то небось хочешь? - неожиданно спросил механик.
- Еще бы, - вздохнул Веня, которому незнакомый механик начинал все больше нравиться. - В животе пусто, как в бензобаке перед посадкой.
Тот молча порылся в своих бездонных карманах, сначала вытащил оттуда пассатижи, потом испачканную маслом какую-то тряпочку и затем уже небольшой газетный сверток, заскорузлыми пальцами его развернул. Там были два бутерброда: один с салом, другой с ломтиком консервированной колбасы.
- Бери любой.
Вепя сначала отрицательно покачал головой, на что механик хмуро ответил:
- Эх, ты. Ну чего выламываешься. По лицу вижу, что голодный. Стало быть, брось все эти великосветские премудрости. Один бутерброд тебе, один мне. А то, пока БАО найдешь да продаттестат оформишь, сколько времени пройдет. Лопай да помни, что тебя в трудную минуту жизни сам Максимович выручил. А ты знаешь, кто такой Янка Максимович и чем он на весь полк знаменит?
- Нет, не знаю, - засмеялся Якушев, - честное слово, не знаю.
- А тем знаменит сын белорусской земли Янка Максимович, что его афоризм весь наш штурмовой полк часто вспоминает. А этот самый афоризм вот в чем состоит. Я однажды плохо зачехлил самолет, потому как на обед заспешил. На разборе полетов инженер эскадрильи стружку стал снимать за это, а я ему в ответ. "А вы знаете, товарищ инженер, в нашей деревне Беляновичи, что на Белоруссии, поговорка такая есть: "Ты, братка ты мой, на работу не спеши. Главное смотри, чтобы голодным не остаться".
Веня рассмеялся и вдруг с удивлением увидел, что беспечность покинула лицо собеседника. Максимович весь подобрался, круглая голова его выпрямилась на короткой шее.
- Кончай базар, - проговорил он, обернувшись к двум мотористам и торопливо дожевывая бутерброд. - Видите, наши летчики расходятся по стоянкам?
Якушев обернулся в ту сторону, откуда шли по мокрой земле к капонирам четверо летчиков в кожаных коричневых шлемофонах, с которых свисали шнурки ларингофонов. Они были как на подбор - одинакового роста. Тот, что шел в центре, оживленно жестикулируя, очевидно, рассказывал какую-то веселую историю, потому что остальные покатывались со смеху.
- Ишь, байку шпарит,- одобрил Максимович и вздохпул. - Как же без них прожить-то на войне, без этих аэродромных баек?
Над летным полем ясно светило весеннее солнце, кое-где на пробудившейся от холода земле уже робко пробивались всходы первой травки. За приближающимися к самолетной стоянке летчиками вдалеке виднелись контуры деревни. Почерневших, опаленных дымом войны изб было значительно больше, чем целых. Боевая работа еще не начиналась, и над притихшим аэродромом, окаймленным канонирами с рассредоточенными в них штурмовиками новой конструкции, неподвижно нависали облака, медленно гонимые ветром. Якушев вдруг подумал о том, что теперь, в сорок третьем, как-то спокойнее и прочнее стала жизнь фронтовиков. Уже никто не поднимал испуганно головы, если где-нибудь далеко раздавался гул самолета, и не слышалось встревоженно-вопросительных восклицаний: "Пешка" или "мессершмитт", "Наш или немецкий?", а смех вразвалочку приближающихся летчиков в особенности настраивал на боевой лад.
"Вот как все изменилось, пока я скитался по госпиталям, - вздохнул Веня. - Разве можно было бы так расхаживать по аэродрому в том же сорок первом, да еще байки рассказывать веселые. Правда, и тогда без них настоящие летуны не обходились".
Тем временем Максимович подтянул к подбородку блестящую "молнию" на комбинезоне и, словно оправдываясь перед Якушевым за эту старательность, обронил:
- Строгий у нас командир звена, ой какой строгий! Надо при полном параде его встречать. Как по уставу. Любит.
- А где он? - заинтересованно спросил Веня. Максимович сделал небрежный жест:
- А вон, в самом центре, тот, что байку рассказывает.
- А кто по званию? Лейтенант или старший лейтенант?
- Старшой, - уважительно произнес Максимович. - Горячий грузин, я тебе скажу. Ой, какой горячий, братка ты мой. Однако широкой натуры личность.
Якушев вслушивался в наплывающие голоса. Смех приближающихся к самолетной стоянке пилотов был таким беззаботным, что невольно думалось, неужели эти веселые, полные сил и задора парни, те, что сейчас так заразительно хохочут, скоро поднимутся в дымное небо войны, в котором каждый из них через считанные минуты может не только оказаться раненым, но и превратиться в дымный факел вместе со своим самолетом. Гортанный голос рассказчика вдруг пробудил в нем одно далекое воспоминание, и Веня невольно прислушался.
- Вот и спрашивает мой друг Гоги у своего овдовевшего отца, - продолжал рассказчик. - Скажи, геноцвале, на какой даме лучше сейчас жениться, если тебе под семьдесят лет. На молодой или на старой? Что, Овчинников, молчишь? Что отвернул физиономию, Воскобойников? А? Не знаете? Так я вам сам отвечу, чтобы знали, если до семидесяти лет доживете и вам это дело еще понадобится. Конечно же, не на старухе, своей ровеснице, а на молодой. Спросите почему, так я отвечу. Старая баба она, понимаешь, что? Кряхтит, охает, стонет. То ей врача вызывай, понимаешь, то примочки сам ставь, компрессы разные. А молодая совсем другое дело, геноцвале. Она тебе на вечер лепешек, борщей, хачипури наготовит. Ва, как хорошо. Доживу до старости, обязательно так и поступлю.
С каждым его сказанным словом Веня все больше и больше улавливал схожесть с давно услышанным, но таким незабытым голосом, каждая нотка которого так в те дни врезалась в память. "Ерунда, - остановил самого себя Якушев. - Не может этого быть. Все грузинские голоса похожи один на другой, все эти "ва", "понимаешь", "гаумарджобы".
Расстояние между Якушевым и навстречу идущими летчиками все сокращалось и сокращалось. И вдруг рассказчик замер как вкопанный. Глаза его орехового цвета с яркими большими белками расширились, а какой-то жест так и остался незавершенным. Остановились в недоумении и три других летчика. А командир звена сначала будто окаменел, а потом, удивив своих подчиненных, присел на корточки и стал манить к себе согнутым указательным пальцем Веню. Улыбка до ушей растянула его смуглое, обветренное лицо:
- А ну, иды, иды сюда, чертов сын, иды, кому говорю, кинто несчастный.
Веня бросился к нему навстречу, лицом зарылся в расстегнутый комбинезон и вдруг не выдержал и заплакал, так остро напомнил этот человек о том, что было и осталось у него за плечами, навсегда перейдя в прошлое. Удивляясь своей расслабленности, Веня вдруг затрясся еще больше, услыхав короткую сбивчивую речь.
- Ну ладно, ладно, - гладя его увесистой рукой по спине, гортанным голосом говорил грузин. - Не реви, как ишак имеретинский, и не вздрагивай, как дореволюционная гимназистка из города Кутаиси, к которой возлюбленный не пришел на свидание, понимаешь. Знаю... все знаю.
- Что ты знаешь? - вскинул голову Веня. - Что?
- Все знаю, - каким-то вдруг обесцвеченным голосом медленно ответил на его вопрос грузин. - И как твоя Лена, красавица, погибла, и что с тобой потом случилось, после того как под бомбовый взрыв из-за этой раззявы девчонки попал, которую бы я выпорол, если бы грузинам, конечно, девушек пороть разрешалось, и что в госпитале на моей родной земле пребывал-знаю. Даже рассказ твой в газете один раз прочел, понимаешь. А теперь ты, разумеется, в наш полк с пустым вещевым мешком притопал? Бросай его здесь на самолетной стоянке, Максимович приберет, а мы сейчас экстренно в столовку направимся. Главное в авиации сам знаешь что. Это харч, и, если ты па незнакомом аэродроме очутился, первым делом топай куда? Куда, я тебя спрашиваю?
- В летную столовую, Вано, - рассмеялся Веня.
- Смотри, находчивый какой, - покачал головой Бак-радзе. - А может, это тебя уже мой техник самолета Максимович научил, понимаешь? Он уже у нас классик, на весь аэродром своей крылатой фразой прославился.
Не сводя с его улыбающегося лица глаз, Якушев процитировал:
- "Ты, братка ты мой, на работу не спеши. Главное смотри, чтобы голодным не остаться".
Потом трое летчиков, извинившись, быстрее зашагали вперед, предоставляя им возможность остаться вдвоем. Глядя им вслед, Вано потеплевшим голосом прокомментировал:
- Это мое звено, Веня. Понимаешь? Вот тот, что слева, Слава Овчинников из Горького, мой правый ведомый в полете, а худой длинный - это командир второй пары "илов" нашего звена Костя Воскобойников из Омска, бывший агроном. Талантливый парень, понимаешь. Ты еще подумать в воздухе под взрывами снарядов не успел, а он уже как-нибудь твою мысль прочитал и все делает, как надо. Третий, упитанный и коренастый, это Тихон Иванов из города Пропойска, истинно христианская душа. При первой возможности водки или спирта может выхлебать больше, чем воды, и не покачнуться.
- А кем буду я? - озадачился Веня.
- Ты? - блеснул белозубой улыбкой Бакрадзе. - Ты мой друг, кацо. Что может быть выше? С тобой от этого проклятого "мессера" чуть не погибли над переправой. В госпитале раны вместе залечивали. Ты и здесь моим воздушным стрелком будешь, если, канэшно, не откажешься,- весело прищурился Вано, и его непроходимо густые, кривые, как сабли, брови сошлись над переносьем.
- Да я что, - заулыбался Якушев. - Я с большим удовольствием... Вот только кабину и вооружение не знаю.
- Овладеешь, - похлопал его по спине Бакрадзе. - За два дня обучим. А потом три-четыре контрольных полета сделаешь, по конусу постреляешь и за линию фронта полетишь.
- А командир полка? Вдруг он не согласится в твое звено меня отдать.
Бакрадзе высокомерно ухмыльнулся:
- Это уже не твоя забота, геноцвале. Значит, по рукам, как говорят джигиты. У нас командир полка человек, правда, горячий. Взрывается словно порох. Сначала нашумит, накричит, а потом сделает все, как надо. Меня уважает, сам увидишь. Позавтракаем - и сразу к нему на КП.
Из столовой опи действительно пошли прямиком на командный пункт полка. Над отогревшейся весенней землей буйно светило солнце, высушивая в иных колдобинах лужицы от прошедшего на рассвете дождя.
Мысленно Веня удивился: "Какая необыкновенная наша земля! В Новочеркасске небо было сумрачным, дожди, ветры, а тут среднерусская полоса, а солнце в эту весну доброе". По сухим березовым ступенькам они спустились в землянку КП, и Веня беспечно воскликнул:
- А знаешь, Вано, я порожки сосчитал. Их тринадцать, чертова дюжина. Самое несчастливое число.
Грузин неодобрительно покачал головой:
- Враки. У пас в полку оно счастливое. У нас тринадцатого февраля командир полка машину с поврежденными рулями из боя привел. Так посадил на земляную полосу, пальчики оближешь.
Неподатливая дверь скрипнула, и они друг за другом перешагнули порог. В тесноватом помещении, надвое разгороженном стенкой из необтесанных досок, было жарко.
Землянка мало чем отличалась от сотен других, разбросанных во фронтовой полосе. В одном отсеке штаб полка с полевыми телефонами и картой района боевых действий, расчерченной множеством кружков, скобок и стрел. Красным цветом обозначено расположение наших войск, синим- противника. В другом отсеке - нары, на которых па расстеленных одеялах с подушками, набитыми соломой, могли отдохнуть экипажи в ожидании боевого вылета.
Бакрадзе и Якушев сразу попали в штабную половину. За столиком с полевыми телефонами сидел заспанный связист с покрасневшими глазами, видать не сомкнувший их за все ночное дежурство. С бревенчатой стены смотрел с портрета Сталин в военной форме, чуть прищурив строгие, зоркие, озабоченные глаза. Со скрипом бесконечно отворялась и затворялась входная дверь, и никто особенно не оборачивался на вошедших. Не слишком яркий колеблющийся свет от электрической лампочки падал на лица людей, молчаливо рассматривавших карту района боевых действий. В центре этой группы - склонившийся над столом человек в коричневой кожаной курточке, которые вместо открытия второго фронта в большом количестве присылали тогда советским летчикам из Америки и которые острыми на язык летчиками быстро были прозваны "подарком Элеоноры", по имени супруги американского президента Рузвельта.
Веня увидел лишь голову этого человека, его не слишком густые, расчесанные на пробор светлые волосы и цепкие сильные пальцы, сжимавшие двухцветный красно-синий карандаш.
- Товарищ командир! - почти с порога прокричал Бакрадзе. - Прошу порадоваться. Новенького привел.
Человек оторвал от карты взгляд, медленно поднял голову, будто недоумевая, кто его мог отвлечь от дела. Зеленые глаза командира полка уперлись в пришельца. Хозяин землянки провел ладонью по своему узкому худощавому лицу, посеревшему от усталости, и не выразил никакого удивления. Достав из планшетки пакет, Веня решительным движением протянул его командиру полка.
- Воздушный стрелок старший сержант Якушев направлен в ваш полк для дальнейшего прохождения службы, - отбарабанил он.
- Гм-м, - усмехнулся командир полка, с треском разрывая пакет, так что полопался красный сургуч на печатях.
- Полк не мой, - поправил он, усмехаясь тонкими, тщательно выбритыми губами, - полк государственный. И я государственный. Да и ты тоже. Как фамилия, говоришь?
- Якушев, - громче, чем в первый раз, повторил Веня.
Командир полка сдвинул белесые брови, и над ними прорезались бороздки морщинок.
- Гм... Еще разок повтори.
- Якушев! - почти выкрикнул Веня, полагая, что после обхода самолетных стоянок от гула моторов, от стрельбы оружейников, опробовавших пушки и пулеметы, командир полка малость оглох: ведь и такое бывало на фронте с летчиками. Подобная временная глухота проходила не всегда сразу. Пауза удлинялась. Под сводом тонких бровей зелепые глаза командира блеснули и напряженно сузились:
- Постой, постой, а откуда ты родом?
- Из Новочеркасска, - недоуменно ответил Веня.
- Вот как. А на какой улице там жил?
- На Аксайской, товарищ майор.
Все находившиеся в землянке, безучастно относившиеся к этому официальному разговору командира полка с новым подчиненным, такому стандартно обязательному при зачислении новичка в полк, вдруг затихли, и молчание их стало заинтересованным.
- Значит, на Аксайской? А купаться на. "ребячку" ты ходил? - неожиданно спросил командир.
- Ходил, товарищ майор, - растерялся Вениамин.
Командир полка костяшками пальцев постукал по столу.
- Так-так, а ты помнишь парня, который вызвал тебя драться на одну левую руку и поставил под глазом изрядный синяк? К этому синяку тебе еще посоветовали прикладывать медный пятак, убедили, что пройдет, а синяк стал еще ярче?
- Помню, товарищ командир, - недоуменно подтвердил Веня.
Лицо у майора стало веселым, будто он сбросил с себя маску усталости, и в каждой черточке проснулась одна лишь доброта.
- Ну, а как звали обидчика, не забыл?
- Нет, товарищ майор. Сашкой Климовым.
- Так вот, этот синяк я тебе тогда и поставил, Венька. И было это, как сейчас помню, под железнодорожным мостом.
Под низким бревенчатым потолком землянки грянул оглушительный хохот.
- Верно, под железнодорожным, - растерянно подтвердил Веня. - Вы еще тогда спросили меня, не тот ли знаменитый Якушев, герой гражданской войны, который был убит белобандитами, доводится мне дядей.
- Спросил! - весело закричал командир полка и, выскочив из-за стола, стал тискать его в объятиях. - Все могут быть свободны! - закричал он, спохватившись. - Чего глазеете? Создайте нам с земляком тишину, чтобы погутарить.
В землянке стало тихо и пусто. Климов опустился на дощатые нары, от которых удушливо пахло острой смолкой, кивком указал место рядом с собой и, когда Якушев сел, по-дружески опустил на его колено узкую цепкую руку. Веня мысленно усмехнулся, подумав о том, как иногда неверно изображают в газетах всех летчиков людьми богатырского сложения, пишут о том, какие широкие и крутые у них плечи и железные кулаки. Климов такого впечатления на журналистов произвести бы не смог. А когда он, упершись ладонями в коленки, ссутулился, приготовившись слушать, он и вовсе показался Вене хлипким, случайно облаченным в яркую форму военного летчика. Кисти рук у него были тонкие и никакой потаенной силы не обнаруживали. Трудно было сразу поверить, что именно ими вводит он в пикирование, а потом вырывает из него почти пятитонный штурмовик. Это были руки парикмахера, чертежника, пианиста, кого угодно, но только не пилота. Климов положил одну из них на плечо Якушеву:
- Ну вот что, Вениамин, договоримся сразу. Когда одни, можешь меня на "ты" и по имени называть, а если другие рядом, запрещаю. Полк есть полк, а командир - это командир. Все-таки на службе дистанцию держать надо. А теперь повествуй о себе. Какими ветрами тебя в штурмовую авиацию задуло? Вот не ожидал, что встретимся этак.
- Да что рассказывать, - постепенно освобождаясь от скованности, проговорил Веня. - Окончил гидромелиоративный техникум, немного поработал в Калмыкии. Там плотину строили. Потом попал на срочную. Кончил школу стрелков-радистов, сделал несколько вылетов на СБ. Сбили, горел. А потом больше года по госпиталям скитался - и вот перед тобой.
Климов задумался, и его зеленые глаза потухли.
- Просто говоришь, словно анкету заполняешь, - вздохнул он. - А в жизни все, что ты рассказал, далеко не просто, милый Веня. Ты за это время солдатом, войной обожженным, стал. Летать на "иле" хочешь? А то в моторяги могу тебя определить. Спокойнее в моторягах, а? Так оно безопаснее, и, если после войны сохранимся, еще обо мне скажут, а то и в газетах пропечатают, каким был чутким командир полка Климов, распознавший талант в своем скромном подчиненном.
Якушев рассмеялся:
- Перестань шутить. Лучше о себе поведай, чтобы знал я, по заслугам ли тебе честь отдаю.
Командир полка вздохнул:
- Да что там, Веня. Ты мне, как в анкете, все выложил, ну и я тебе так же коротко. Я два курса в нашем Новочеркасском индустриальном институте окончил. А потом, помнишь, призыв "Комсомолец, на самолет". Вот я и подался в летное, училище. А теперь шлемофон на голову натянул, ларингофоны приладил, полосу аэродромную перед собой осмотрел и - по газам. Стало быть, не хочешь пополнять могучее племя мотористов?
- Без меня просуществует, - улыбнулся Якушев. - Иметь такого, как ты, командира да не попасть по землячеству в летный экипаж. За кого ты меня принимаешь?
Зеленые глаза Климова наполнились смехом:
- Начинаю чувствовать: летать хочешь.
- Догадливый, - усмехнулся Якушев.
- Ну так что же, - быстро заключил Климов. - Тогда пойдешь воздушным стрелком в звено Бакрадзе, своего старого знакомого. Ты его любишь?
- Еще бы! - воскликнул Веня. - Вместе горели, вместе лежали в госпитале.
- Остается прибавить: вместе ходили по бабам, и аттестация будет завершена, - сострил Климов.
- Не хами, - поморщился Якушев. - Баб в твоем понимании у меня не было и не будет. Была Лена одна-единствеиная. Погибла.
- А-а, - пробормотал Климов, - тогда извипи за этот солдатский юмор. Чего так на меня вытаращился?
Сероглазое лицо Якушева озарилось улыбкой:
- До сих пор глазам своим не верю, Саша, что эта землянка, со всеми телефонами, нарами, картами, все самолетные стоянки, все технари и летчики - все это твое, раз командир полка ты... Ведь о таких и поется: "У нас героем становится любой".
- Героем, говоришь? Ну и понес... А впрочем... - Зеленые глаза Климова остро блеснули. Будто бы ненароком, словно жарко ему стало, тонкими пальцами отвел он на кожаной курточке до самого ее низа застежку "молнию", распахнул полы, и Веня увидел ордена, а над ними золотую пятиконечную звездочку.- Я ведь и так уже Герой, как видишь.
- Ой ты! - ахнул Веня. - Да за что же это тебе?
Климов расхохотался:
- Все-таки как-никак, а сто боевых вылетов за плечами, а в них всякое бывало. Ну да ладно, потом как-нибудь. Ведь это уже из области мемуаров. А мемуары после войны.
Он резко поднялся с нар, отвлеченный длинным звонком полевого телефона, берясь за черную трубку, лаконично сказал:
- Иди-ка ты теперь к Бакрадзе и доложи о своем зачислении по моему приказанию в его экипаж. Три дня на изучепие оружия и кабины, два контрольных полета и - в бой.
Четыре самолета Ил-2, окрашенные в буйные зеленые весенние тона, рассекая трехлопастными винтами воздух, низко проносились над голыми полями прифронтовой зоны с поблескивающими в кюветах дорог остатками прошедшего на заре дождя. Раньше в такую пору поля орловско-курской полосы были одеты единым веселым цветом пробившихся над землей посевов, буйно-веселым, так радующим глаз. Сейчас они поражали взгляд уныло-черным своим однообразием.
Так и казалось, что кто-то снял с земли нарядное зеленое пальто и вместо него накинул другое, мрачно-серого цвета. Шла большая жестокая война, уничтожавшая в прифронтовой полосе извечный труд земледельца. Лик земли омрачали останки полусгоревших необитаемых деревень с почерневшими от пепла бревнами и сорванными крышами изб.
Вано Бакрадзе, пилотировавший на бреющем четверку "ильюшиных", запросил сидевшего в задней кабине Якушева:
- Стрелок, как идут ведомые, доложи?
- Все в порядке, командир. Идут, как на параде, который будет непременно после нашей победы.
- Короче, победитель, - прервал Бакрадзе, - это ты в своих гениальных произведениях будешь так длинно потом писать.
- Интервалы выдерживают, - поправился Веня.
- Вот так-то, - одобрил Вано. - Будь повнимательнее. Через десять минут линия фронта.
- Есть, - откликнулся воздушный стрелок.
Десять минут! Какой это все-таки еще большой срок в боевом полете. Сколько можно пережить и передумать в задней кабине "ила" воздушному стрелку за это время. Эту истину Якушев прочно усвоил еще тогда, в сорок первом, когда летал в хвостовой кабине бомбардировщика СБ. Сейчас он шел в свой первый боевой вылет на "иле". Утром на полковом построении летного состава осунувшийся от недосыпания командир полка Климов сдержанно сказал:
- Сегодня весь день будем вести только разведку. Бомбометание и атаки целей на усмотрение командиров групп. Штаб фронта постоянно требует обновлять оперативную информацию о поведении противника в прифронтовой полосе.
- Чем это вызвано, товарищ командир? - прозвучал над головами летчиков и воздушных стрелков голос лейтенанта Овчинникова, окающего, как и все волжане.
Климов вскинул зеленоватые глаза, насмешливо его осек:
- Лейтенант, вы не на нижегородской ярмарке, а в строю. Командиру вопросов не задают, пока он ставит боевую задачу.
...Сейчас машина Овчинникова шла на небольшом удалении от их "семерки". На ее зеленом борту был выведен номер "одиннадцать". Голова этого рослого лейтенанта почти доставала до потолка фонаря. Самолеты шли в правом пеленге, а пеленг - это полет уступом, при котором они идут наподобие птичьей стаи.
Вожак впереди, а за ним с определенными, ни на каких чертежах не обозначенными интервалами вся стая. И удивительно, что у ведущих птичьих стай, не имеющих ни чертежей, ни расчетных плановых таблиц, стая всегда выдерживает точные интервалы и дистанции. Одним словом, поразительно сходство птичьего мира с миром людей, поднявшихся в небо. Вот почему взяли авиаторы себе эмблемой распахнутые крылья, о которых даже в песнях поется.
Звено "илыошиных" вел на цель Вано Бакрадзе.
Напрягая зрение, он первым обозревал горизонт. За ним следовали машины ведомых. Прифронтовая полоса надвигалась на нос кабины. Летчик хорошо видел впереди, но ничего не видел позади себя, потому что бензобак отделял его кабину от кабины воздушного стрелка.
- Как там лейтенанты? - окликнул он Якушева, имея в виду ведомых.
- Держатся как привязанные, - доложил Веня. - И Овчинников, и Воскобойников, и славный сын города Пропойска Тихон Иванов.
- Шуточки в сторону, - огрызнулся Бакрадзе, - не па вечеринку с танцами едем.
Двухместные кабины "ильюшиных", за которые они на авиационном жаргоне были прозваны "горбатыми", действительно горбились, блестя на солнце плексигласом фонарей. В передних сидели летчики, в задних - воздушные стрелки. Оттуда торчали черные стволы крупнокалиберных пулеметов. В климовском полку, чтобы поднять свой авторитет, воздушные стрелки именовали их только пушками. Но это и на самом деле соответствовало фронтовой терминологии, потому что огонь из задней кабины был настолько мощным, что редко когда "мессершмитты" или "фокке-вульфы", те самые, что раньше, зайдя в хвост, бесцеремонно расстреливали беззащитный одноместный Ил-2, подходили теперь на близкое расстояние. А сколько их, немецких истребителей, уже сгорело и ржавыми от дождей обломками осталось лежать на русской земле на всем протяжении линии фронта!
Была и еще одна особенность, которую безошибочно уловил Якушев в своих первых боевых полетах - это одиночество и какая-то давившая на психику замкнутость. Тот, кто сидел в передней кабине за штурвалом, от взлета, и до посадки, завершавшейся заруливанием в капонир, был предельно занят. Ему еле-еле хватало времени на осмотрительность и реакцию. Ведь сотни обязательных в точности своего исполнения движений надо было проделать летчику. И за приборной доской следить, и к гулу мотора постоянно прислушиваться, вести ориентировку и наблюдать за передней и боковыми сферами. А когда группа попадала под зенитный огонь, только мастерский маневр спасал в этом случае машину и экипаж.
Иное дело воздушный стрелок. В большинстве случаев напряжение приходило к нему лишь в тот момент, когда в наушниках раздавался чуть-чуть надтреснутый, искаженный эфиром голос пилота. Всего три слова и предлог "к".
- Подходим к линии фронта.
С этой секунды умирали в его сознании все посторонние мысли и только одна, острая и тревожная, заставляла шептать сухими губами, обозревая остающееся за высоким килем штурмовика голубое небо:
- Хвост... задняя полусфера... небо.
И, произнося эти слова, он словно бы самому себе отдавал приказание, в жестокую обязательность которого свято верил. Да и как можно было не верить, если мысль о постоянной возможности увидеть за хвостом своей машины тонкий силуэт заходящего в атаку "мессершмитта" уже не покидала стрелка.
Но если небо за хвостом "ильюшина" было чистым и безмятежным, то легче дышалось воздушному стрелку. Он мог немного расслабиться и помечтать, мог даже и запеть, что и делали иные собратья его по профессии до той поры, пока это не пресекалось требованием командира экипажа.
...Винты "ильюшиных" рубили нагревающийся от солнца воздух. Бежала навстречу земля, вся какая-то притаившаяся, не сулящая экипажам безмятежного покоя. Затрещало в наушниках, и гортанный голос Вано Бакрадзе наконец произнес эти настораживающие слова:
- Подходим к линии фронта.
Так же, как и его коллеги, другие воздушные стрелки, Веня ощутил минутное оцепенение. Будто сдавил кто-то дыхание, но сразу же и отпустил. В памяти всплыло последнее наставление Вано Бакрадзе, адресованное одним только воздушным стрелкам.
- Вылет у нас сегодня особенный, поэтому наблюдать, наблюдать и наблюдать. Во все четыре глаза наблюдать.
Бойкий частушечник стрелок из экипажа Овчинникова сержант Ванечка Заплетин, про которого иной раз однополчане острили: "он своими частушками всех ободрил, но ни одного девичьего сердца еще не покорил", худой горбоносый парень, мастер чечетки, осклабился в усмешке:
- Гы... А откуда же эти четыре глаза взять?
- Не возражать, - с напускной сердитостью оборвал его Бакрадзе. - Два своих собственных уже имеешь? Да? Значит, еще по одному на каждом виске должно появиться. Вот так, юноша. Два будут строго наблюдать за хвостом, а два других, один влево, один вправо, должны воздушное пространство обозревать и следить... за дорогами, понимаешь, за кустиками, за перелесками. Какое в тылу у противника движение, сколько на земле автомашин, танков, орудий замаскированных, на каких опушках они притаились. Так что не стройте из себя непонимающих ишаков, ребята, которые привезли на кутаисский базар бурдюки с вином цинандали, а зачем и как его пить не знают. Обзор мне подавайте прифронтовой полосы и всего, что за линией фронта. Ради этого мы чуть-чуть поглубже сегодня в тыл к фашистам пройдем. Поглядим, что там у них.
Позолоченные солнцем диски винтов окружали носы четырех "илов", прохладный, еще не нагретый солнечными лучами воздух обтекал строгие тела самолетов. Шли "илы" ровно, будто связанные друг с другом невидимой линией, и была она, эта линия, одной строчкой большой войны. Под широкими плоскостями самолетов промелькнули последние окопы, обозначающие наш передний край, и моторы четверки, как показалось Вене, заревели суровее. Поглядывая попеременно то за правый, то за левый борт самолета, Веня видел прифронтовую зону нашей обороны. В четырех последних вылетах они проходили звеном по этому же самому маршруту, но тогда дороги и перелески с воздуха казались пустынными, будто вымерла на них вся та небольшая жизнь, которая еще теплилась на этой обожженной войною земле. Сейчас по ним подтягивались к переднему краю вереницы автомашин, в перелесках с бреющего полета можно было увидеть орудия и танки, закиданные зелеными ветками, уберегающими от взгляда с воздуха, разреженные невесомые дымки полевых кухонь, которые нелегко было рассмотреть даже с бреющего полета. Завидев четверку "илов", пехотинцы, как и обычно, подбрасывая пилотки, приветствовали их, но только теперь этих ребят в серых шинелях было значительно больше. Они рыли новые траншеи, дерном обкладывали блиндажи и землянки.
- Фронт! - гортанным голосом выкрикнул по СПУ Бакрадзе, и Веня приник к холодной турели.
Сквозь тонкую паутину прицела он обозревал небо, голубое, обманчиво мирное, еще не разорванное ни единым зенитным выстрелом. В этом месте не было водного рубежа, никакой, даже самой узкой, поблескивающей на солнце речушки. Две гигантские воюющие силы разделяли лишь изломанные линии траншей, да нейтральная полоса промеж них. На другой стороне за нейтральной полосой тоже были зазеленевшие перелески, а по дорогам, связывающим фашистский тыл с линией фронта, закамуфлированные под нежный цвет весны, нескончаемо длинным потоком шли тягачи, бронетранспортеры, самоходки.
- Ты видишь, какая натурель! - выкрикнул по СПУ только одному ему, своему воздушному стрелку, Бакрадзе.- Совсем, понимаешь, как на картине знаменитого баталиста Верещагина. Только горы черепов не хватает.
- Не пугай, командир, - насмешливо отозвался Якушев, но Бакрадзе никак не прореагировал.
Даже не предупредив о начале атаки, он вдруг резко опустил нос "ила", отчего Веню прижало к бронеспинке, а машина затряслась от грохота пушек. За высоким килем штурмовика разорванной косой линией пронеслась трасса, затем вторая, третья, и совсем уже рядом расплылся черный ком зенитного снаряда, весь начиненный молниями.
- Дай очередь, - крикнул ему Бакрадзе на выводе. Веня уже успел засечь балочку, из которой вели огонь, и хлестанул по вспышкам из пулемета, когда машина была в нравом вираже.
- Молодец, - оценил Бакрадзе.
Но земля, занятая фашистами, не собиралась оставлять их в покое. Со всех сторон, раня нежно-голубой воздух, мчались навстречу их машине и вслед ей красно-желтые огоньки. На киле уже вспухли пробоины и затрепетала вздыбленная ветром перкаль, а потом и весь самолет как-то расслабленно вздрогнул и накренился на правое крыло. Но машина еще повиновалась рулям и с небольшим углом стала разворачиваться на сто восемьдесят градусов, беря курс домой. Хриплый голос Вано наполнил наушники:
- Венька, нас подбили. В левом крыле большая дыра... рули... тянем на вынужденную. - Секунды молчания, и охрипший голос командира повторил: - Амба, тянем на вынужденную... как легли бомбы? Видел?
- Видел, командир. У них в балочке два огромных взрыва. Очевидно, склады боеприпасов.
- И то хорошо, - грустно вздохнул Бакрадзе.
Мелким пологим разворотом их машина стала описывать гигантский полукруг, заметно приближаясь к линии фронта, той заветной черте, перелетев через которую самолет мог безбоязно приземлиться где угодно, потому что была там уже отбитая у врага наша, советская земля. Неожиданно мотор стал предательски чихать и захлебнулся.
- Эх, не дотянули! - горестно воскликнул Вано. - Амба! Иду на вынужденную... Ехать так ехать, - мрачно пробормотал Вано, и связь между ними оборвалась.
Страшное, если вдуматься, слово "планирование" в применении к самолету, подбитому над целью. На языке летчиков "планирование" - это элемент любой посадки. Сколько учебно-тренировочных вылетов, столько раз и приходится летчику планировать на свой аэродром. Но это в мирное время, когда после посадки на пробеге гулко застучали колеса, а самолет все теряет и теряет скорость, прежде чем остановиться.
Но планирование на подбитой зенитками машине с заглохшим мотором и черными лопастями почти замершего винта дело совсем другое. Сцепив зубы, ожидает летчик первого решающего толчка о землю. А его воздушный стрелок? Тому и тем более хуже, потому что не знает он, ранен или не ранен командир, доведет ли машину до земли, успешно ли ее посадит, либо, потеряв сознание, с углом врежется в землю и лишь грохот взорвавшихся бензобаков будет реквиемом по погибшему экипажу.
Молчали наушники, и только ветер царапал фюзеляж. Якушев весь сжался в упругий комок. Страха не было, лишь оцепенение сковало тело тягостным ожиданием. Удар и сильный толчок, от которого -звоном наполнилась голова, и густое облако пыли встало над их машиной. Он отстегнул застежку привязного ремня и вдруг увидел перед собою поцарапанное яростное лицо командира, все вспотевшее от невероятного напряжения.
- Ты что копаешься, чертов сын, к теще на блины собрался, что ли, понимаешь! Или к Герингу в гости на ханш. Ползи за мной, тут до наших окопов близко. Метров двести я всего не дотянул.
Веня безропотно пополз вслед за командиром, не снимая парашютного ранца. Рявкнул близкий взрыв, теплая волна обдала лицо, над головой просвистели осколки.
- Ва! - крикнул Бакрадзе возбужденным голосом. - В рубашке родился, Веня, парашютный ранец осколки в клочья подрали, а сам цел.
- Как наши ребята, командир?
Якушев увидел, что самолет, пилотируемый лейтенантом Овчинниковым, перетянул уже через линию фронта и, теряя высоту, удаляется на восток. Несколько секунд они как зачарованные смотрели этому "илу" вслед.
- Ва! - повторил Бакрадзе. - В рубашке родился Славка. Дотянет домой, про нас расскажет.
И они, взглянув друг на друга, горько вздохнули, подумав о своей судьбе.
У летчиков драма в воздухе совершается за считанные секунды. Только что радовался экипаж тому, что удалось поразить цель и на земле, занятой врагом, полыхает огромный костер на месте взрыва сброшенных бомб, только что на самых высоких басовитых нотах пел свою могучую песню мотор "ильюшина", только что обменивались они по самолетному переговорному устройству короткими фразами, и вдруг блеск пламени от разорвавшегося зенитного снаряда впереди винта, искры, обдавшие нос боевой машины - и резко обрывается бесперебойный гул, так же как и твоя собственная вера в жизнь. Из последних сил тянет пилот на восток, а земля все ближе и ближе, и вот уже машина беспомощно опускается на фюзеляж и, пропахав несколько метров, навсегда замирает на со всех сторон обстреливаемой нейтральной полосе, как именуется на фронте ничейная земля, и ты уже не знаешь, что уготовила тебе судьба.
Вторая пара "илов", сделав разворот, па бреющем прочесывала изрытое воронками поле боя, отсекая немцев, решивших захватить в плен Якушева и Бакрадзе.
Впереди была большая воронка от авиабомбы, и оба не раздумывая бросились к ней. Над головами снова засвистели осколки, а пули автоматчиков подняли впереди фонтанчики пыли. И вдруг зоркие Венькины глаза разглядели ползущих им навстречу людей в касках и серых маскхалатах с лягушачьей расцветкой.
- Ва, кацо! - обрадовался было грузин. - Это же наши, - но тут же скисшим голосом прибавил: - Только ты умерь свой пыл... Назад оглянись, геноцвале.
Вениамин оглянулся и увидел, как с другой стороны, не отрываясь от земли, ползут к ним и вражеские автоматчики.
- Ахтунг, ахтунг! - раздался над полем боя картавый нерусский голос, усиленный мегафоном. - Доблестные советские летчики... вы есть окружены. Сопротивление бесполезно. Ваш самолет есть разрушен. Сдавайтесь плен. Мы обеспечим вам гуманное обращение. На ответ мы даем одна минута. Дальше пук-пук.
Якушев приметил метрах в двадцати впереди еще одну глубокую воронку, тоже от разорвавшейся фугаски, и оба бросились к ней. Немцы сдержали свое обещание. Треск автоматов действительно возобновился лишь через минуту. Летчик и воздушный стрелок, прыгая в воронку, услыхали свист автоматной очереди. Трассирующие пули прожужжали над их головами. Пригибая Венькину голову к земле, летчик с огорчением пробормотал:
- Всего тридцать метров каких-нибудь до наших траншей остается... Однако еще один мулла сказал: "Близок локоть, да не укусишь".
- Врешь, - несмотря на отчаянность их положения, горько усмехнулся Якушев. - Это русская поговорка. Рванем, командир, к нашим окопам, сам сказал, тридцать метров всего.
- Почему русская, - заупрямился Вано, - говорю, один мулла, значит, так и есть. Кто в экипаже командир: ты или я?
- Рванем, командир, к нашим окопам, - повторил Якушев.
- Ва, какой ты нетерпеливый, - осек его Бакрадзе.- Или не подумал, что у них каждый метр пристрелян.
- К черту! - исступленно закричал Веня и, петляя, побежал к опушке рощицы, перед которой высился желто-коричневый бруствер траншеи.
И снова, им на счастье, попалась глубокая воронка от авиабомбы. В нее вскочил с размаху летчик, следом его стрелок, у ног которого перед этим, вздыбив землю, легла автоматная очередь. Не успел он присесть в воронке на корточки и облегченно вздохнуть, как сверху прямо ему на плечи обрушился рослый конопатый парень с болтавшимся поперек живота автоматом в пестром маскировочном халате и пилотке с красной звездочкой.
- Ты что? - отодвинулся Веня. - Раздавишь.
- А ты лоб свой дурацкий пулям не подставляй! - сипло закричал незнакомец. - Тебе тут не сад городской для прогулок, едрена мать. Ишь, брюхо наел в авиации, не разминуться в одной воронке. - И незнакомец обрушил на него длинное виртуозное ругательство.- Ты ранен?
- Нет.
- Тогда какого черта не пошевелишься, чтобы место дать. Очумел от страха, что ли, москвич?
- Я не москвич. Я донской, - оскорбленно возразил Вениамин.
Лицо незнакомого разведчика, густо усеянное конопатинками, на мгновение замерло от удивления, рыжие брови приподнялись над блекло-голубыми немигающими глазами.
- До-он-ской, - протянул он недоверчиво. - Может, скопской, а не донской? Чего-то я на Дону таких не видал. Откуда родом, если из наших мест?
- Жорка Смешливый, ты! - вдруг закричал Якушев.- Вот как мы с тобой встретились! - И они стали обнимать ДРУГ ДРУга.
- Эй вы, идиоты! - закричал кто-то из подползавших к воронке разведчиков. - Нашли где лобызаться, черти.
- А ну молчать! - свирепо зыркнул па говорившего Смешливый и, сняв автомат с плеча, дал в небо очередь зеленых трассирующих пуль.
Она прочертила над их головами прямую вертикальную дорожку, и тотчас же в самых разных местах повскакивали припавшие к земле солдаты в пятнистых зеленых маскхалатах и касках.
Бакрадзе засуетился, хотел к ним было тотчас примкнуть, но рыжий Жорка сурово его осадил:
- Ты тут сиди, сын грузинского народа. Ты в воздухе командир, а тут я. И ты сиди, Венька.. А когда завяжем бой, оба немедленно в мой блиндаж.
И разведчики, петляя по пересеченной местности, короткими перебежками бросились вперед. А Якушев и Бакрадзе, пригибаясь к земле, уже не обстреливаемой противником, быстро достигли единственного блиндажа, в котором сидел телефонист, безнадежно вызывая какой-то "Вираж".
Перестрелка отдалилась, а затем и вовсе смолкла. Томительные минуты казались нескончаемыми. Вспыхнувшая было стрельба неожиданно оборвалась, и над полем боя стало тихо, тихо. Вано и Веня удивленно переглянулись и по узким, пахнущим дурманной смолкой ступеням поднялись наверх. Им навстречу дружной гурьбой шли разведчики. Впереди веселый, улыбающийся Жорка Смешливый, за ним два немца со скрученными руками в неподпоясанных мундирах.
- Ну, брат, - весело отдуваясь, обращаясь к одному лишь Вене, промолвил Смешливый. - Повезло сегодня, как никогда. Ни одного убитого и раненого. Велено было в штабе одного "языка" захватить, а мы аж двух волочем. Выходит, на двести процентов план выполнили, а?
Жорка так и сказал, как многие ребятишки говорили на Аксайской улице, не процентов, а процентов, но Веня, любивший иногда поправлять близких людей, неправильно произносивших слова, не обратил на это никакого внимания. Он никогда еще не был на передовой и с удивлением наблюдал за течением боя. В хаотическом на первый взгляд нагромождении звуков и коротких команд он силился угадать стройную систему наземного боя, и это удалось. Густо падали снаряды, вздымая султаны земли и вставая над ней, тяжко израненной, дымными столбами, а потом, после того как немцы побежали в панике к своим окопам, артиллерийский огонь с нашей стороны мгновенно оборвался и наши разведчики стали поспешно отходить. Короткими перебежками приближались они к своим блиндажам и в эту минуту особенно нуждались в поддержке. Совершенно неожиданно за спиной у Якушева раздался, грозный скрип, будто кто-то провел огромным смычком по гигантскому контрабасу, и в сторону противника одна за другой помчались похожие на кометы яркие хвостатые молнии. "Это "катюши" бьют", - подумал Веня, пораженный невиданной красотой этого зрелища.
И вдруг осекся губительный огонь "катюш", прикрывавших отход разведчиков, и остались в поле зрения у Вениамина лишь приближающиеся два гитлеровских солдата, показавшиеся такими нелепыми в окружении разведчиков. Один, маленький, тщедушно дрожал, утирая с лица кровь.
- Кто его? - сурово спросил Смешливый.
- Он кусался, - откликнулся рослый парень, который был на целую голову выше пленного.
- Смотри, Панюшкин, не первый раз предупреждаю,- погрозил ему Георгий.
Второй пленный, ефрейтор, с заносчиво поднятой головой надменно смотрел вдаль голубыми глазами, стискивая бескровные губы.
- Молодцы мои ребята, - сказал Смешливый, разглядывая захваченных в плен. - Каждому благодарность объявляю. У тебя что, Цыганков, царапина? Иди к нашему медицинскому богу Верочке, пусть перевяжет. Видал, Веня, это они и есть господа арийцы. Сначала на Москву ходили, на Сталинград пытались. А теперь вот тут, на Орловско-Курской дуге, пакость какую-то замышляют сотворить, - рассуждал он, озабоченно поглядывая на гитлеровцев. - Гм-м. А зачем это мне, собственно говоря, два "языка"?
- А ты отпусти второго назад, командир, - ухмыльнулся тот самый солдат, которого он поругал за рукоприкладство.
- Плохого же ты мнения, Панюшкин, об умственных способностях своего командира, - безобидно прищуриваясь, произнес Смешливый. - Зачем же отпускать, если мы за него сейчас приличный трофей получим. - Жорка оборотился к одному лишь Якушеву и весело проговорил: - Слышь, Веня, в соседнем батальоне разведвзвод никак контрольного пленного вот уже третью неделю взять не может. А там комбат Колотов мужик сурьезный, так он что сказал? "Если вы до божьего воскресенья живого фрица мне не притащите, то добра не ждите".
А сегодня зараз, как я понимаю, уже пятница пошла. Вот и получается, Вениамин, по той частушке, какую мы с тобой еще с детства на Аксайской улице выучили: "Ростов город на Дону, Саратов на Волге, черт поймал сатану, мучил его долго". Айда, Веня, в землянку, я по аппарату буду с пораженцами зараз гутарить по-нашему, по-казачьи.
- С кем, с кем, товарищ старшина? - до ушей заулыбался прощенный Панюшкин.
- С пораженцами, - сурово повторил Смешливый. - Как же их еще назовешь, если ни одного фрица не могут своему командиру притащить?
По осклизлым, неотесанным, пахнущим сосновой смолой ступенькам Смешливый, а за ним Веня и Бакрадзе спустились в сыроватую землянку с грубо сколоченным столом, за которым сидел телефонист, и Смешливый сипловатым своим голосом бросил:
- Эй, Эдиссон, а ну свяжи меня с "Иволгой" быстро. И позови самого Пронина.
- А это кто, Жора? - поинтересовался Якушев.
- Это? Это такой же большой начальник, как и я. Командир соседнего разведвзвода.
Заспанный телефонист долго вращал скрипучую трубку телефона и простуженным голосом выкрикивал позывной соседей.
- Такой же большой начальник, как и я, только не во всем, - повторил Смешливый.
- А в чем же он не такой? - вступил в разговор Бакрадзе.
У Смешливого весело подскочили редкие рыжие брови, окончательно выгоревшие на ветрах и солнце.
- А в том, как я уже сказал, что мои ребята через каждые три-четыре дня пленного достают, а он за целый месяц ни одного не приволок, и мы плохо знаем, что на том секторе обороны противник делает. Комбат его разжаловать пообещал и срок в три дня установил, а сегодня уже в аккурат третьи сутки истекают.
- Ну и что же? - заинтересовался Веня.
- А то, что мы сейчас лишнего пленного им отдадим.
- Ва, как это по-рыцарски! - воскликнул Бакрадзе. - В порядке выручки, значит?
Глаза у Смешливого вдруг подернулись ледяной пленкой:
- Вот именно, товарищ старший лейтенант. Но не просто так за здорово живешь, а за гонорар.
- За какой такой гонорар? - опешил грузин. - Ничего нэ понимаю.
- Сейчас поймете.
Телефонист уже совал своему строгому начальнику трубку. Смешливый цепко ее сжал в покрытой конопатипками руке.
- Это ты, Пронин? - крикнул Жорка, подмигивая летчикам. - Чего звоню? Ходят слухи, что ты самого Гитлера в плен забрал, в качестве "языка" комбату своему хочешь доставить. Да я не шуткую, а всерьез поздравить тебя хотел с такой сенсационной удачей. Говорят, в газетах завтра указ о твоем награждении за героический подвиг будет отпечатан. Ладно, ладно, не торопись с возмущениями. Я не трепаться с тобой собрался. Мы сейчас двух фрицев привели. Знатные "языки", и все штабные тонкости знают. Так вот, я сижу и размышляю, а зачем мне аж два, если у меня есть хороший друг Пронин. Я отдам тебе одного, ладно? Только ты повремени благодарить, я тебе не за твои красивые глаза предлагаю, а за соответствующий гонорар. Угостишь меня, чем бог послал.
- Согласен. За товарищескую взаимопомощь, за войсковую выручку ничего не жалко. Угощу обязательно...
К вечеру пришла из полка аэродромная полуторка, и солдат, сидевший за баранкой, лихо доложил Бакрадзе:
- Товарищ старший лейтенант, командир прислал за вами. Докладывает рядовой Кусков.
- Маладэц, Кусков, - улыбнулся Вано. - А как там мои ведомые?
- Все до единого возвратились.
- А самолеты?
- Побиты как следует, но их в ПАРМе* к завтрашнему дню залатают, и можно снова в бой.
(ПАРМ - полевые авиаремонтные мастерские.)
- Да, - философски заметил грузин. - Этих "снова в бой" до Берлина еще не счесть.
И летчики стали прощаться с разведчиками. Несколько захмелевший Георгий Смешливый неожиданно пустил слезу:
- Эх, Венька, Венька, кто бы из нас мог подумать, что мы с тобой этак встретимся в этом водовороте. Если бы какой режиссер в киношке все показал, едва ли бы кто поверил.
Они расцеловались, и Веня вслед за Вано Бакрадзе направился к стоявшей под сенью кустов видавшей виды аэродромной полуторке. Поставив ногу на туго накачанный скат, Якушев обернулся. Увидел, что Георгий неподвижно стоит у землянки, приветственно подняв руку, словно гранитный памятник. Подпрыгивая на полевой кочковатой дороге, полуторка понесла их к аэродрому.
Веня видел, как все меньше и меньше становится этот живой памятник. Он так никогда и не узнал, что ровно через трое суток его друг детства Жора Смешливый пошел за линию фронта брать контрольного пленного и никогда больше над израненной русской землей не прозвучал его сипловатый голос, потому что с задания он не возвратился.
Славлю тебя, стальной трехлопастный винт, несущий самолет Ил-2 по заданному маршруту. На каких бы оборотах ты ни вращался и куда бы ни уносил экипаж - к цели или от нее, к обжитому аэродрому, в тихое голубое небо или сквозь режущие его зенитные разрывы, черный круг от твоего вращения всегда вселяет уверенность в летчика, видящего его сквозь переднее смотровое стекло кабины.
Впрочем, почему только черный? Он и белесым, и светло-серым, и нежно-зеленым бывает, если голубеет небо над твоей горбатой кабиной. Важно, чтобы он был, ибо только тогда спокойно и ясно на душе у пилота, из какой бы беды он ни выходил.
Утро этого августовского дня было торжественным и даже парадным на раздольном аэродроме, где базировался полк Александра Климова. Просинь высокого неба, доверчиво распахнувшегося над пустыми капонирами, радовала глаз своей чистотой. Твердая земля, прогретая среднерусским солнцем, звоном отзывалась на шаги летчиков, спешивших на построение. И когда замер строй и был принят рапорт начальника штаба, Климов торжественно проговорил, нарушая все уставные формы обращения:
- Сделайте в своей памяти зарубку, ребята. Сегодня завершено историческое Орловско-Курское сражение, мы возвратили Родине Белгород, Орел, Курск и десятки других городов, не говоря уже о сотнях селений. До сих пор мы перелетали на новые аэродромы на восток, и только на восток, оставляя наши родные города и села, и, скажу прямо, тяжелая была у нас доля. И вот теперь мы впервые за всю войну должны перебазироваться на новый аэродром, а он на сто с лишним километров западнее этого, нами обжитого. Наш наземный эшелон уже орудует на новой точке. Саперы прошли, таблички свои мудрые "Мин нет" расставили, а сейчас солдаты нашего БАО землянки, брошенные немцами, в порядок приводят, зловонный дух завоевателей из них выветривают. Одним словом, по самолетам, орлы!
Прочихались в капонирах могучие "илы", а потом их надежные моторы запели на одной басовитой ноте победную свою песню. Подпрыгивая на опаленной августовским ветром кочковатой земле, стал выруливать и штурмовик старшего лейтенанта Бакрадзе. Включив самолетное переговорное устройство, грузин озабоченно спросил:
- Веня, как там наше звено?
- Ведомые вырулили, командир, и стоят в правом пеленге на заданных интервалах.
- Тогда по газам!
Самолеты, обдав тугим гулом окрестность, дружно ринулись в голубое пространство августовского дня навстречу солнцу, успевшему опалить среднерусскую землю.
После перелета Якушев записал в своем блокноте: "Так я ощутил наше наступление".
А потом менялись аэродромы, села и города, попадавшиеся в боевом полете на маршрутах. Огромная радость победы захлестнула летчиков, воздушных стрелков, техников и всех авиаспециалистов климовского полка. Сам Климов ходил не сутулясь, как раньше в дни, когда гибли летчики и самолеты, а гордо выпрямившись, и в лексиконе у него на разборе полетов или предполетной подготовке появились прочно ужившиеся фразы: "Мой полк разгромит и эту цель", "Мой полк готов делать в сутки и по три боевых вылета", "Запаса прочности у моих орлов хватит до самого Берлина". Или, когда было у него на душе неважно, то, отбрасывая хлипкий чубчик со своего вспотевшего лба, он гневно выпаливал: "Я не позволю, чтобы кто-нибудь позорил мой полк".
Якушев, когда они были на аэродроме только вдвоем, однажды его бесцеремонно оборвал:
- Саша, брось фанфаронствовать, это я тебя как земляк, как казак прошу.
Климов сердито метнул на него взгляд, на его лице сквозь загар пробилась бурая краска, но вдруг он не только не пришел в ярость, но и рассмеялся:
- Послушай, Веня, а ведь ты действительно прав. Не буду, а то ты еще скажешь, что командир полка Наполеона из себя корчить начал.
- Наполеона не надо, Саша, - примирительно опротестовал Якушев. - Наполеон - это битый полководец. Его мой прадед Андрей Якушев вместе с казаками самого Платова до Парижа гнал. Ты лучше на Кутузова старайся быть похожим, если так хочешь повеличаться.
Они рассмеялись и, похлопывая друг друга по спинам, пошли вдоль капониров, в которых стояли "илы", готовые покинуть насиженный аэродром.
Шли дни и недели, и опять менялись аэродромы, села и города, дававшие временный приют летчикам климовского полка, у которых на картах, заключенных под целлулоидом планшеток, неизменно прочерчивалась одна только маршрутная линия: на запад!
Ветер победы! Как он сладок был после горьких дней отступления, как омолаживал лица многое повидавших воздушных бойцов, водивших теперь свои самолеты к цели с курсом в двести семьдесят градусов.
Это был курс не только к тем городам и селам, которые еще находились под властью фашистов, но и курс к еще далекому, но уже явственно осязаемому мысленным взором любого воина Берлину.
- Слушай, Вениамин? - грубовато спросил однажды командир полка Климов. - Ты умеешь держать язык за зубами?
- Спрашиваешь, - так же грубовато ответил и Якушев. - В свое время я даже и отцу не пожаловался на то, что ты мне на "ребячке" синяк под глазом поставил, а уж как допрашивали родители.
- Не дури, то же детская драка, а я тебе о серьезном хочу поведать.
- Поведай, - засмеялся Якушев. - Это хорошо, что в лексиконе у командира полка появилось такое нетипичное для штабной речи слово.
- Лексикон... Гм... - пробормотал Климов и почесал старательно выбритую щеку.
- А ты не знаешь?
- Откуда же, - вздохнул командир полка. - Мой жизненный путь тебе известен. Два курса сугубо технического вуза, в котором страницы любого учебника дышали лишь техническими терминами да полсотни, если не меньше, прочитанных книг. Немного Гоголя, немного Толстого, совсем мало Тургенева, "Челкаш" Горького, а дальше кабина самолета и приборная доска. Сам знаешь, какую академию проходит рядовой военный летчик.
- Не прибедняйся, - хмыкнул Якушев. - Ты даже мои рассказики почитываешь.
- Вот-вот, - засмеялся Климов и откинул назад светлую прядь волос. - Кстати, в последнем номере фронтовой газеты прочел твои три колонки: "Решение".
- Ну, так и что по этому поводу молвишь? - прищурился Веня и стал ревниво ожидать ответа.
- Ты это здорово завернул о том, как над целью зенитные осколки разбили у летчика плексиглас на фонаре и этот полуослепший летчик благодаря командам воздушного стрелка выполнил посадку. Скажи, а ты бы так мог, если бы это с твоим Бакрадзе случилось?
- Пусть лучше не случается,- улыбнулся Веня. - Бакрадзе для меня не только обожаемый командир, он для меня, как брат. Пусть глаза его сто лет видят, как у орла.
- Одобряю подобную преданность, - улыбнулся Климов.- Ну, а теперь скажи, что такое "лексикон", а то, не дай бог, кто из летчиков спросит, а я пе знаю. Стыд-то какой.
- Словарный запас человека.
- А-а, буду теперь знать.
- Ну, а язык по какому поводу я должен держать за зубами, - спросил Веня, искоса взглянув на командира полка.
Худое лицо Климова, облитое розоватым послерассветным солнцем, было непроницаемым. Они медленно шли мимо самолетных стоянок, мимо нахохлившихся "илов", с которых мотористы вместе с чехлами, влажными от предрассветного дождя, сбрасывали и собственную сонливость. Климов вздохнул:
- Слушай сюда, как говорят в Одессе. Ты уже сорок два боевых вылета с ним сделал.
- Ошибаешься. Сорок три. Первый был тот кровавый на СБ, после которого нас на долгие сроки по госпиталям развезли. Бакрадзе, меня и нашего штурмана ворчуна Сошникова.
- Твоя правда, - вздохнул Климов и задумчиво посмотрел на свои прихваченные аэродромной пылью сапоги. - Что ты о Бакрадзе можешь сказать?
- Отличный парень, лучшего командира мне пе надо,- пожал плечами Якушев.
- А ты в курсе, что он две педели назад свой сотый вылет совершил?
- Еще бы. Все-таки в задней кабине с ним летаю. По двести граммов наркомовских за ужином по этому поводу выпили.
- А ты знаешь, что такое для летчика сотня боевых вылетов?
- Это очень много, - ухмыльнулся Вениамин.
- Тупица, - прощающе покачал головой командир полка. - Сто боевых вылетов - это для летчика целая биография, и не все доживают до такой цифры. Сколько штурмовок у каждого впереди, сколько встреч с "мессерами" и "фоккерами", а ведь после каждой голова может сединой покрыться.
- Вано не из таких, - возразил Веня, - если госпожа смерть заглянет в его глаза, в этом смысле успеха иметь не будет. Вано не из числа слабонервных. А вообще, командир, ты прав. Далеко не каждый из нас, пилотов, доживет до такой цифры.
Они оба на мгновение, как по команде, замолчали, и каждому представилась такая типичная для боевого полета картина. И то, как, напутствуя летчиков, пересекающих линию фронта, подбрасывают на самом переднем крае в воздух свои пилотки запыленные, уставшие от постоянного ожидания фашистской атаки пехотинцы, как радуются они наплывающему гулу наших "ильюшиных" и как скорбят, если, увидев обозначившуюся на горизонте группу "илов", летящую обратным курсом от цели, вдруг не досчитаются в ней одного, а то и нескольких самолетов. Сто раз любому пилоту надо пройти сквозь все это, чтобы теперь сравняться с Вано Бакрадзе.
- Рад, - иронически заметил Климов. - Подумаешь, событие твоя радость. Из одной твоей радости шубу не сошьешь. Я по-другому поступил, станичник. Я его к званию Героя Советского Союза представил. Представление ушло в Москву, его наш комдив полковник Наконечников с радостью подписал и в штаб воздушной армии отправил. Первым попутным "Дугласом". А сегодня ночью из штаба дивизии тот же самый Наконечников приказал, чтобы я самого Вано с первым попутным "Дугласом" в Москву отправил. Полагаю, если бы мое представление было отклонено, его бы туда не позвали. Однако сам он об этом ничего не знает, и не надо ему ничего говорить. Вон мой "виллис" подруливает. Забирайся на заднее сиденье, и махнем на вашу стоянку.
Аэродром еще не ожил, полеты еще не начались, и, пользуясь этим, оглянувшись на Климова и не прочтя в его глазах запрета, водитель, молоденький солдатик с острым конопатеньким носом, рванул напрямик через все летное поле к самолету с распахнутой дверью. Огромная эта машина казалась необычной среди подтянутых, отличающихся своими строгими очертаниями "илов". У этой открытой двери топтался Бакрадзе с небольшим чемоданчиком в руке. Доложив о своей готовности убыть в командировку, кивнув на свой незначительный багаж, лаконично спросил:
- Этого хватит?
- А ты что же, бурдюк с кахетинским хотел захватить в Управление кадров ВВС? - кольнул его зелеными глазами Климов. - Явишься, доложишь по всем правилам.
- А зачем меня туда вызывают? - беспокойно спросил Вано. - Если какое другое назначение будут давать, я никуда из нашего полка не уйду. С меня достаточно деспота Климова.
- Дадут, - поддел его командир полка. - Командиром дивизии немедленно назначат с присвоением генеральского 8вания.
Бакрадзе без всякого удивления пожал плечами:
- А я готов. В особенности если, как вы говорите, товарищ майор, генеральское звание к этому прибавят. Когда я был еще босоногим пастушонком, дедушка Отари всегда говорил: "Будешь стадо хорошо пасти, бесенок, зоотехником станешь". Почему же мне не стать генералом? Ну, а если всерьез, товарищ командир?
- Всерьез не знаю, высшему начальству вопросы не задают.
Прогрев моторы, "Дуглас" взлетел с аэродрома. А через три дня Бакрадзе возвратился на борту другого такого же попутного "Дугласа". Первым делом он отправился на стоянку своего "ила", где его уже ожидал весь экипаж. Он шел по аэродрому, а весть уже обогнала его, и весь полк знал о происшедшем. Первым на пути встал механик Максимович.
- Ну что, братка ты мой? - скопировал его Бакрадзе.- Ты на работу не спеши, гляди, как бы голодным не остаться. Так, что ли, сыны белорусского народа говорят? Голодным в нашем экипаже на сегодняшний день никто не останется, потому что, ты видишь, сколько я в главном военторге на дорогу деликатесов получил. В свертках и рыбка, и балычок осетровый, и мед, и копченая колбаса самого тонкого происхождения, и лимоны с апельсинами. Даже две бутылки чачи, которая почему-то у лорда Черчилля висками называется. Одну мы своим экипажем выпьем, а вторую я командиру полка презентую. Пускай высокое начальство угостит в лице своих заместителей.
- Звездочку, командир, звездочку нам свою пятиконечную покажи! - закричал в эту минуту Якушев.
Бакрадзе гордо запустил руку в карман, вынул оттуда красную коробочку, а из нее уже заблестевшую на жарко-ватом солнце пятиконечную Золотую Звезду Героя Советского Союза. Оттеняя смуглую кожу грузина, она скромно лежала на его ладони.
- Да... звездочка, - тихо проговорил Вано. - Нелегко она достается, ребята. Сколько отдано каждым воином за такую звездочку и еще отдать требуется!.. Много отдать, геноцвале. Кто мне ее поможет прикрепить на китель? - Он обвел глазами членов экипажа: Якушева, Максимовича и моториста Игнатьева, упитанного низкорослого парнишку с обилием веснушек на лице.
Никто из подчиненных не пошевелился, и Вано, полагая, что они не поняли его вопроса, с удивлением повторил: - Так кто поможет приколоть Звезду Героя? Почему вы молчите? Или вы глухонемыми стали за время моего отсутствия?
- Рано прикалывать, - сказал после долгой паузы Максимович. - Не по авиационному это, товарищ командир. А ну, давайте ее сюда, а мы распечатаем эту англицкую чачу.
Откуда-то появился стакан, и тот же разворотливый Максимович, раскупорив бутылку виски с затейливой этикеткой, до самых краев наполнил его темно-коричневой жидкостью и требовательно закричал:
- Звездочку, командир, звездочку сюда давайте.
Маленькая пятиконечная звездочка потонула в его широкой, со следами цыпок и мозолей руке...
- А ну, покажите, командир, как обмываются награды в нашем еще не гвардейском штурмовом авиаполку. Осушите-ка этот бокал, товарищ командир.
- Немедленно прекратить! - раздался вдруг за их спинами разгневанный голос. Из подъехавшей машины выпрыгнул Климов, а за ним три ведомых летчика этого звена: Овчинников, Тихон Иванов и Воскобойников. - Я сейчас вам покажу, как пить в летный день, да еще без командира полка. Где там виновник торжества?
Обпяв Бакрадзе, Климов приказал:
- Только один глоток, дорогой Вано. И пусть огонь этой звезды еще сильнее горит в твоем сердце, пока не приведешь ты, живой и невредимый, свою боевую машину с последнего боевого вылета на этой войне и пусть в этом вылете будут тобой и орлами твоими сброшены бомбы на проклятый рейхстаг. И пусть она хорошо носится, эта твоя справедливая награда. Всем нам тоже только по одному глотку.
- Почему такая скупость, товарищ командир? - засмеялся грузин. - И потом, у каждого свой глоток. У Якушева, например, он равен пятидесяти граммам, а у меня ста. Как же быть? Разве я должен равняться на своего стрелка, а не он на меня? Пачему?
- Ну ладно, орлы, - подобрел Климов, - знаю, что вы всегда вывернетесь. Тем более, когда налицо такой повод. Всем по сто граммов, и точка. Через два часа вылет на железнодорожный узел Брянск. Там зенитки злые, сами знаете. А вечером отметим награждение капитана Бакрадзе Золотой Звездой всем полком, как и подобает. Военторг обещает к наркомовской суточной норме в сто граммов водки немножко прибавить из своих фондов.
- Старшего лейтенанта, - поправил было Вано, но Климов свел над переносьем редкие выгоревшие на аэродромных ветрах брови.
- Я сказал - капитана,- повторил он сердито.- Вчера вечером командующий фронтом подписал приказ.
На новом аэродроме, что был уже северо-западнее Орла, жизнь штурмового полка начиналась с прослушивания сводок Совинформбюро. Голос диктора, почти всегда их читавшего, был широко знаком всем фронтовикам, так же как и тем миллионам людей, что находились в тылу у мартеновских печей, в забое, на колхозных полях. Теперь и фамилия этого диктора стала па весь мир известной: Левитан.
В сорок первом, когда этот диктор сообщал о наших потерях и об оставлении русских городов и сел под Москвой, голос его был сурово-печальным, зовущим не к смирению, а к борьбе.
Но каким же бодрящим набатом раскатывался его голос теперь, когда сообщал он об освобождении новых городов и районов, как торжественно-приподнято звучал этот голос, когда зачитывал диктор приказы нашего Верховного Главнокомандующего Сталина или произносил: "На западном направлении наши войска штурмом освободили от немецко-фашистских захватчиков города..." - и следовало дальше их перечисление, заставлявшее фронтовиков и радоваться, и плакать об утратах.
Мы любили голос Левитана, потому что в ту пору боев стал он для нас голосом приближающейся победы. И порою, прослушав такую сводку где-нибудь в сыроватой землянке или у полковой радиостанции, связывающей командира с находящимися в воздухе или выруливающими на старт штурмовиками, каждый летчик с трудом сдерживал волнение, а иной даже и вытирал ненужную слезу, которая могла так иногда помешать при взлете. Голос диктора словно отсчитывал время, и время это было временем нашей победы. Как мы страдали в сорок первом, когда летчикам, находившимся в Смоленске, выдавали карты с новым местом базирования под Вязьмой, а в Вязьме указывался запасной аэродром под Калинином, а то и Можайском.
А теперь штурмовой полк Климова шел на запад, и только на запад.
В конце августа сорок четвертого года, когда уже стали тылом Речица, Бобруйск и Гомель, полк Александра Климова базировался на полевом аэродроме Сенница, близ маленького белорусского городка Пружаны. Городок после изгнания немцев уже успели привести в порядок, улицы были чистенькими, будто и не прокатился по ним огромный вал наступающих войск.
Якушев должен был сдать в штаб дивизии какой-то пакет с щедро налепленными на него сургучными печатями. Пакет, вероятно, был срочным, потому что Климов даже дал ему свой "виллис" на целых три часа, кратко заметив:
- Валяй. Город заодно осмотришь. А то летаем, летаем, а вблизи ничего не видим. Погуляй, проветрись, может, потом в рассказ какую-то сценку вставишь.
Штаб дивизии помещался в красно-кирпичном двухэтажном здании. На втором этаже, камни которого хранили утреннюю прохладу, было пустынно. Веня быстро сдал пакет. Покидая штаб, он 'по ошибке открыл не ту дверь и, перешагнув порог, очутился в узкой, длинной комнате. За столиком с пишущей машинкой сидела хрупкая девушка с косичками, а другая, в армейской форме, стояла перед ней, что-то оживленно рассказывая. Широкий комсоставский ремень туго перетягивал ее талию, так что на гимнастерке не было ни одной складки. Чуть вьющиеся волосы вставали над загорелым лбом, в больших светло-серых глазах застыло удивление.
- Вы ошиблись, товарищ старший сержант. Выход рядом.
Якушев взялся за медную ручку двери. Что заставило его оглянуться, он бы даже потом, много лет спустя, не мог объяснить. Он почувствовал, что девушка в армейской форме безотрывно на него смотрит. Смотрит как человек, чем-то удивленный, утративший на мгновение способность быстро принять решение. Еще бы секунда - и дверь этой комнаты закрылась, и скорее всего навсегда.
- Постойте, товарищ старший сержант!
Веня обернулся и вдруг увидел, как побледнело ее лицо.
- Постойте, - повторила она. - А вы... вы сейчас не на аэродром ли торопитесь?
- Угадали, - неуверенно улыбнулся Якушев. - А что?
Девушка, окончательно растерявшись, еще не успела произнести сухими, обветренными губами ни одного слова, как ее опередила машинистка:
- Подвезите Тосю, товарищ старший сержант. Сапожки у нее хромовые, офицерские, да только топать в них далеко, ножки может растереть, - хихикнула она.
- Светлана, как тебе не стыдно, - сердито обрушилась на подругу заговорившая.
- А вы, наверное, из нашего БАО? - смущенно осведомился Веня.
- Нет, не оттуда. Из батальона связи. Того, что всего в пяти километрах от вашего аэродрома. Вы меня высадите на развилке дорог, а оттуда я уже одна доберусь. Очень меня обяжете. - Бледные губы связистки вздрогнули, и по смущенному ее лицу пробежали тени. Будто солнечный луч, ярко осветив это чем-то встревоженное лицо, неожиданно померк. Светло-серые глаза обрели неуверенность. Каким-то нервным движением она сунула за ремень тонкие пальцы, словно пыталась подавить растерянность.
- Зачем же пешком? - пожал плечами Веня и щедро предложил: - Я вас до самого места домчу на нашем полковом "виллисе".
Девушка благодарно кивнула и, как ему показалось, вздохнула. "Одна минута, - вспоминал впоследствии Якушев. - Никогда не учтешь силу этой минуты, если она не проходная в твоей жизни, и тем более не опишешь". Вот не окликнула бы его ее подружка, и уехал бы Веня со своей чуть-чуть замутненной душой, и угасло бы, не сразу, но неминуемо угасло воспоминание об этой встрече, и пошли бы они по жизни разными непересекающимися путями, и растворилось бы все, что эта минута могла решить. Но Якушев взялся за красно-медную дверную ручку и коротко, даже не попрощавшись с той, что сидела за машинкой, нерешительно позвал:
- Идемте, Тося.
Новенький командирский "виллис", чуть встряхивая на жестких рессорах, помчал их по улицам маленького городка. Веня сидбл рядом с шофером, она сзади, и оба, нахохлившись, всю эту короткую дорогу молчали. Водитель Климова, малоразговорчивый ефрейтор Голубкин, угрюмый полтавчанин, давно не получавший никаких известий от попавшей в оккупацию семьи, которому было уже за сорок, безоговорочно выполнил приказание, а если говорить точнее, то просьбу, выраженную его временным начальником. В маленькой, близкой от их аэродрома деревушке Тося сошла почти у околицы и, указывая на давно не беленную хатенку с низко нахлобученной камышовой крышей, грустно сказала:
- Вот тут я и живу. Нас здесь двое девушек с узла связи, товарищ старший сержант. Если будете когда ехать мимо, заходите в гости. А за то, что подвезли, спасибо.
Глаз она не опустила, и щеки ее не зарделись от смущения.
- А если я сегодня приду? - дерзко спросил вдруг Якушев. - Вот сегодня или завтра возьму и приду. Не прогоните?
- Нет, не прогоню, - грустно откликнулась она. - Вы только имя свое не позабудьте сказать на прощание.
- Веня.
- Я буду ждать вас, Веня.
- Я это место хорошо знаю, здесь мы всегда делаем четвертый разворот перед посадкой, - успел прибавить Якушев.
Стрельнув дымком, "виллис" рванулся вперед. Оглянувшись, Веня увидел, что девушка стоит с поднятой рукой, вся какая-то застывшая и недоуменная. Тоненькой показалась ему ее фигурка, перетянутая ремнем.
- Где тебя носили черти? - спросил неодобрительно Бакрадзе после того, как он выпрыгнул из "виллиса" на самолетной стоянке.
- Не ругайся, Вано, поручение командира полка выполнял.
- Поручение, поручение, - проворчал Бакрадзе. - Какое может быть поручение, если через час вылет на цель. Я уже резервного стрелка хотел брать, понимаешь, вместо тебя.
- За чем же тогда остановка? - обиделся Веня. - Бери.
- Ну ладно, ладно, ишак строптивый, не лезь в пузырь. С тобой надежнее. Задание, понимаешь, не слишком простое. - Он поднес планшетку к его глазам: - Вот смотри.
Наклонившись, Веня увидел изломанную красную линию маршрута, упиравшуюся в тонкий изгиб реки, и строчку железной дороги.
- Здесь ходит бронепоезд, понимаешь, - заволновался грузин. - Уже несколько дней и ночей ходит, проклятый, понимаешь, и никто не может остановить. Ни наши доблестные артиллеристы, ни прославленные наши партизаны - мастера по железнодорожным взрывам, ни летчики из соседнего братского штурмового полка. Прилетал тут утром разгон давать командир дивизии полковник Наконечников, меня вызвали на КП... Ты Наконечникова видел когда-нибудь, Веня?
- Кажется, встречал...
- Здоровый такой в плечах, как у вас, у русских, говорят, косая сажень. Лицо полное, доброе, но когда надо, ох и свирепым бывает, вай-вай. Вызывает, значит, меня на КП. "Ты Герой Советского Союза, Бакрадзе. Золотую Звезду носишь?" - "Ношу". - "Так вот докажи, что ты Герой. Разбей сегодня бронепоезд, от которого пехота стонать начинает". А я что говорю? Я говорю: "Так точно, будет исполнено. Цель будет перекрыта". Комдив лишь усмехнулся свирепо: "Мне и другие командиры групп, вернувшись из боя, так докладывали. Цель перекрыта, но ничего не убито". А нам надо убить этот бронепоезд, Веня, понимаешь. Вот этот лесок видишь?
Якушев склонился над планшеткой, которую Бакрадзе держал в руках, плохо подстриженным ногтем водя по изломанной линии маршрута и кружочкам, обозначающим цели.
- Вот здесь у них одна зенитная батарея, вот здесь вторая, а тут за изгибом речушки, чуть левее, третья. Фейерверк в нашу честь устроят приличный. Так что к этому будь готов, как юный пионер. К зениткам и "фоккеры" или "мессершмитты" могут прибавиться. Одним словом, скучать тебе в своей кабине не придется. Плюс к тому, хочу прибавить, что полетим не своей одной четверкой, как обычно летаем, а шестеркой, ибо береженого бог бережет, а огонь шестерки сильнее огня четверки.
- Арифметику изучал еще в первом классе, - хмыкнул Якушев. - Так что знаю, что четыре плюс два шесть.
Бакрадзе рассмеялся, и озабоченность улетучилась с его лица:
- Маладэц! Юмористы, если даже и над полем боя погибают, в рай попадают самыми первыми, вне очереди, геноцвале. Но ты помолчи, потому что повторение - это мать учения.
- Есть, помолчать, товарищ капитан! - гаркнул иронически Якушев, но Вано пропустил мимо ушей эту маленькую дерзость и повеселевшим голосом оценил:
- Вот это уже получше, потому что Герою СССР капитану Бакрадзе только послушные подчиненные нужны, других держать он не станет. А теперь марш в кабину и проверь все оборудование. Через двадцать минут взлетать.
Нет ничего томительнее этих минут ожидания, предшествующих боевому вылету. Все уже рассказано командиром, обсуждены все детали предстоящей штурмовки, последние отметки нанесены ведомыми летчиками на карты. Скользят минуты, и остается их пятнадцать - десять до зычной команды: по самолетам. И вот тут-то начинаются сомнения, раздирающие разум и душу.
Глядит улетающий на боевое задание в небо, вслушивается в отголоски опробуемых моторов и думает, быть или не быть, вернется он или не вернется, если выпадет судьбина горькая испытать все беды вынужденной посадки за линией фронта или гореть над целью от вражеских зениток либо от очереди с фашистского истребителя с черными крестами на крыльях. Даже реальный полет, в котором все это может случиться, и то легче, чем его ожидание, когда перепутываются и азартное желание боя и предвидение опасности, граничащей со смертью. Но легче полет, потому что мало в нем остается времени на тягостное раздумье, потому что надо действовать, действовать и действовать и азартное желание добиться победы подстегивает к этому и только этим одним будет занят разум.
Красная ракета взметнулась над аэродромом, и летчики со своими воздушными стрелками бросились к своим боевым машинам. Одни широким шагом, другие бегом.
Вано Бакрадзе уже стоял на крыле, готовясь занести ногу над обрезом открытой кабины, и глаза его остро поблескивали. По тому, как занимали свои боевые места его экипажи, он угадывал состояние своих подчиненных. Вот быстро перешагнул борт кабины Слава Овчинников, его бессменный ведомый, не отстал от того и командир второй пары Воскобойников, что-то сказал своему стрелку, погрозив при этом указательным пальцем, сын города Пропойска Иванов. Очевидно, "стружку" пообещал снять в случае, если тот замешкается в полете. Защелкнулись фонари над головами у летчиков, затянули привязные ремни воздушные стрелки, а за всем этим наблюдал Климов со своей сооруженной возле полковой землянки деревянной вышки, про которую шутя говорил Якушеву:
- А ведь вышка у меня дозорная. Совсем как у казаков на Дону. Смотри, Венька, и запоминай, что не померкла в душе у Сашки Климова казачья удаль: вышка совсем как сторожевая в те доблестные времена, когда казаки атамана Платова ратные подвиги совершали и твой знаменитый прадед Андрей Якушев был среди них. Вот бы дать ему тогда один наш Ил-2, он бы не только всю Францию прошел...
Закамуфлированные под цвет уходящего лета штурмовики медленно подруливали к грунтовой взлетной полосе полевого аэродрома тем же правым уступом, каким машины должны были идти в воздухе и который в штабной плановой таблице значился, как "правый пеленг". Последней потянулась пара из соседнего звена, обязанная замыкать всю группу, усиливая ее атакующую мощь. На старте, как и было положено, "илы" пара за парой выстроились в затылок друг другу на исполосованной следами взлетающих и садящихся машин взлетной грунтовой полосе, рассекающей середину аэродрома, этого кратковременного пристанища всех авиаторов климовского полка, кратковременного потому, что уже была определена для его базирования новая точка западнее, но знал про это в полку пока что один его командир.
Сам он стоял сейчас на вышке, сжимая рукоять ракетницы, деловито поглядывая на ручные часы. Он видел, как бежит по циферблату секундная стрелка, и ждал окончания минуты. На пятидесятой секунде Климов нажал курок, и зеленый огонь взрезал прогретый солнцем воздух аэродрома. И сразу же запели на больших оборотах моторы "илов", и первая пара ринулась вперед, начиная разбег, за ней вторая, третья.
Сколько раз наблюдал Александр Климов картину взлета, но никогда не мог отделаться от волнения и чувства зависти к тому, кто уводил в бой тяжелые "илы" без него! Ревниво он провожал глазами оторвавшиеся от полосы машины, ревниво следил за их первым, вторым и третьим разворотом, за тем, как они собирались на петле, и всегда ему казалось, что, будь он сам на месте командира группы, все было бы лучше. Но сейчас он остался доволен пилотажем ведущего и скупо промолвил, так, чтобы все присутствующие на вышке услыхали:
- Молодчина сын грузинского народа Вано Бакрадзе. Не зря получил парень Героя. Мы с Наконечниковым знали кого представлять за Орловско-Курскую. А что?
На войне всяко летали штурмовики. Летали в снегопад и в дождь, в непогоду, когда на близком расстоянии от носа машины пугающе смыкалось небо, летали на низкой высоте, именуемой бреющим полетом, и на более значительных средних высотах, иной раз под страхом смертельной опасности пробивали облачность, чтобы увидеть землю и выйти на аэродромную взлетную полосу.
Всяко, но не одинаково. И над этой неодинаковостью постоянно задумывались командиры групп, старались как можно незаметнее подойти к цели и как можно неожиданнее ее атаковать, ошеломив врага.
Бакрадзе был одним из таких командиров. В воздухе он ощущал не только окрыленность машины, но и свою собственную окрыленность. А ее рождала лишь беспокойная командирская мысль. Вот и сейчас, идя в свой сто двадцать первый полет, он еще на земле придумал новый вариант атаки, с каким согласился командир полка.
Цель была трудная, требующая при нанесенни штурмового удара большой точности и риска. Попыхивая дымком, фашистский бронепоезд курсировал на узком участке фронта. Перемещаясь с места на место, он короткими артналетами отбрасывал назад стрелковые батальоны, пытавшиеся прорвать немецкую оборону. Бронепоезд, вооруженный даже зенитными установками, был грозной силой на этом участке фронта.
Уже три дня задерживалось наступление. Из штаба фронта шли разгневанные депеши в штаб воздушной армии, а оттуда в дивизию. Ее командир, полковник Наконечников, человек огромного роста, с тяжелой боксерской нижней челюстью, завершающей черты его в общем-то доброго лица, ожесточенно кричал в телефонную трубку:
- Спишь, что ли, Климов? Твои три раза ходили на цель, а результатов ноль целых, ноль десятых. Чего они там мечутся над ней, словно слепые котята?..
А вот сейчас четвертая по счету группа "илов" его полка шла по тому же самому маршруту, и вел ее в бой Вано Бакрадзе.
Из задней кабины командирской машины воздушный стрелок Веня Якушев следил за тем, как идут позади ведомые. Их было пятеро. Пять машин и пять экипажей. Веня видел белесые нимбы от бешено вращающихся винтов, окружающие носы самолетов. "Илы" шли на предельной скорости, какую только позволяла высота бреющего полета. Якушев ее обожал. Только она, рожденная дружным гулом моторов, вызывала ту приподнятость и уверенность в полете, которые так были нужны перед боевой атакой. За гордо поднятыми килями штурмовиков километрами отлетала земля, уже предосенняя, теряющая свой остро-зеленый цвет. Позади оставались наполовину вырубленные леса и перелески, сгоревшие улицы деревень и сел. Веня подумал о том, как, очевидно, боялись здесь немцы отважных белорусских партизан. Круглое, как блюдце, озеро с тростниковыми подходами, с уткнувшейся в топкий берег никому сейчас не нужной рыбацкой лодкой отлетело назад, а гортанный голос Бакрадзе наполнил наушники:
- Веня, не спи. Ведомые держатся за нами? Почему по докладываешь, стрелок?
- Идут, как по ниточке, все пятеро, командир.
- Сейчас будем менять высоту.
По тому, как прижало его к холодной бронеспинке, Веня безошибочно определил, что, взяв ручку управления на себя, Вано под большим углом задирает нос "ила". Следом за ним этот же самый пилотаж повторили и летчики других машин. Вся группа шла в правом пеленге. Подчиняясь пилотам, загруженные бомбами и снарядами в пушечных лентах машины стремительно набрали высоту, определенную еще на земле, и вдруг на его глазах стали перестраиваться в длинную колонну. Шесть машин, взяв интервалы, летели теперь друг за другом. В этом и заключался замысел Бакрадзе, решившего атаковать бронепоезд с ходу, без обычного боевого разворота, при котором, хочешь не хочешь, зависают машины и больше, чем бы хотелось, находятся в прицеле зенитных батарей. "Атака с ходу, только с ходу",- напоминал он летчикам, когда они расходились перед вылетом по машинам. И вот все они на большой для "ила" высоте.
- Веня, как у других интервалы? - поинтересовался Бакрадзе.
- Нормально.
- Ну держись, начинаем пикировать, вижу цель.
Как он умел, этот косолапый, ходивший по земле вразвалочку, полноватый, с виду флегматичный, человек, в недалеком прошлом зоотехник, перевоплощаться в воздухе в злого, порывистого, начиненного решительностью бойца. Веня иногда думал, как бы хорошо было увидеть глаза Вано в такую минуту. Но это было невозможно, потому что их разделяла бронеспинка и огромный трехсотлитровый бензобак. Он только угадывал ярость Бакрадзе по изменившемуся голосу.
С высоты двух тысяч метров видел сейчас Вано линию железнодорожного полотна с желтыми осыпями песка на откосах и метавшийся на рельсах фашистский бронепоезд, на одной из платформ которого были установлены зенитки. Пучки огня, сопровождающие каждый выстрел выпущенного с земли по их группе снаряда, осыпали искрами незапятнанное облаками небо, взблескивали под крыльями.
- Не шарахаться! - прикрикнул Вано. - Угол восемьдесят, друг за другом идем в атаку!
Климов часто восхищался тем, как атакует Бакрадзе. Рассчитав угол, тот резко сваливал самолет и, убедившись, что кок винта направлен строго в цель, начинал пикирование, увлекая за собой ведомых. Сверкали навстречу залпы зениток, тугой ветер угрожающе свистел за обшивкой "ила",но уже никакая сила не могла удержать летчика. Потом на земле он, добродушно ухмыляясь, постукивал себя кулаком в грудь, хвастливо восклицал:
- У них вспышка, и у меня вспышка. Только у них в стволах зениток, а у меня вот тут,- и картинно стучал кулаком себя в грудь.
Вот и сейчас эта минута настала.
- Веня, на ремнях удержишься? - осведомился Вано.- Атака!
Друг за другом, окрашенные в темно-зеленый цвет наступающей осени, шесть тяжелых штурмовиков почти отвесно с двухкилометровой высоты сваливались вниз и, сбрасывая бомбы, уходили на солнце, не теряя своего места в строю, и уже не было никакой силы остановить атаку с пикирования ни одного из них. А потом, набрав высоту, они снова ударили по бронепоезду, уже атакуя его не поодиночке, а парами.
- Сброс! - прокричал Бакрадзе на этот раз одному только своему ведомому Славе Овчинникову.
Мгновения - и на земле ухнули новые взрывы. На пути у паровоза в куски разлетелись шпалы, а на первой за ним платформе стали рваться боеприпасы, и она окуталась огнем и дымом. Набирая высоту для нового захода, летчик был неприятно озадачен молчанием задней кабины, из которой обычно воздушный стрелок тотчас же на развороте от цели сообщал о результатах атаки. Нехорошее предчувствие пало на душу грузина: "Неужели?"
- Чего молчишь, Веня, чего молчишь? - окликнул он.
Тишина в наушниках, легкое потрескивание, и вдруг нелепые слова дошли до его сознания.
- Да уж больно красивую ты иллюминацию немцам устроил. Залюбуешься,- разобрал Бакрадзе искореженный помехами голос Якушева. И, не до конца его поняв, спросил;
- Что? Какая иллюминация, кацо? Что горит?
- Середина бронепоезда... вся.
- Нашел время любоваться. За хвостом гляди. Последний заход.
И шестерка снова спикировала с высоты на цель. Ярким черно-багровым облаком вставал над помертвевшими платформами дым. Будто парализованный, замер паровоз, поваленный взрывом на откос насыпи. Лишь на задней платформе еще теплилась жизнь и обрывки беспорядочных трасс, разрывая голубой воздух, снова тянулись к шестерке "илов".
- Ид-е-е-м домой! - прокричал ведущий. Но так и недоговорил, потому что его, совершенно успокоившегося, поверившего в благополучный исход боя, словно бичом ожег несколько флегматичный голос воздушного стрелка.
- Командир,- с расстановкой проговорил Якушев каким-то ровным ледяным голосом, как будто самым главным сейчас было по складам произнести это слово.- Командир, справа сзади четыре "фоккера". Одна пара заходит на нас с хвоста.
- Держи в прицеле! - выкрикнул Бакрадзе, и тотчас же их самолет задрожал и задергался то влево, то вправо, меняя свое положение в воздухе.
Вано услыхал новую очередь стрелка, после которой Якушев сбивчиво передал по СПУ:
- Это второй уже атаковал.
И, ощущая сухость во рту, Вано запросил:
- Где прошла его трасса?
- Правее плоскости,- буднично ответил Якушев.- Подверни влево.
И опять последние эти два слова из задней кабины прозвучали вроде с ленцой, почти бесстрастно. "Как держится, паршивец", - мелькнула отрывистая мысль, и Вано резко дал ручку и левую ногу от себя. По спине пробежали мурашки в ожидании новой очереди, и она действительно последовала, но разорвала лишь пустое небо. Два первых атакующих истребителя со звоном ушли вверх, не добившись успеха.
- Кажется, пронесло! - облегченно выкрикнул Бакрадзе.
Но задняя кабина молчала. Застывшими от напряжения глазами стрелок всматривался в пространство за высоким килем "ила". Задняя полусфера была чиста. И вдруг из ее обманчивой голубизны родились новые силуэты. Будто кто-то нарисовал их сначала бледным пунктиром, затем обвел этот пунктир тушью, заполнил серо-зеленым цветом, нахлобучил на очертания фюзеляжей засверкавшие холодными злобными бликами пилотские остекленные кабины, обвел правильными дисками винты бешено работающих моторов, будто радующихся тому, что немцы, ими управляющие, вот-вот настигнут уходящий на восток штурмовик и тогда никто не дождется его на посадочной полосе, да и увидил ли два обгоревших трупа в груде исковерканного металла, оставшегося от машины, упавшей вдалеке от родного аэродрома.
Один "фокке-вульф" пошел в атаку, другой его прикрывал сзади. В прицеле у атакующего фашистского пилота обозначилась открытая по пояс фигура стрелка. "Почему стынут мысли? - спросил вдруг у себя Веня и не ощутил никакого страха. - Неужели он меня сейчас убьет, а потом расстреляет сзади беззащитную машину? Почему стынут мысли?" - задал он этот вопрос себе вторично, вовсе не пытаясь на него ответить. Он освобождался от какого-то неожиданного оцепенения, освобождался сначала автоматическими движениями, приводившими крупнокалиберный пулемет в нужное положение, а уж потом мыслью. Но, пока мысль приходила, ствол пулемета этими заученными движениями был им уже поднят и в сетке прицела обозначился капот "фокке-вульфа".
"Четыре пушки против одного крупнокалиберного пулемета, - подумал Веня. - Четыре трассы против одной, способной вырваться в ответ. Меня и Вано разделяет огромный бензобак, - горько усмехнулся он. - Одно попадание, и мы классически взлетим на воздух, и понесемся к земле, и будет столб плам'ени и дыма над нашей пилотской могилой вместо обелиска, вот и все". Он дал короткую пристрелочную очередь, помня о том, что в ленте всего восемьдесят патронов. От задней его кабины к тупорылому "фоккеру" промчалась красным пунктиром проложенная дорожка трассирующих пуль. "Теперь его ответная очередь, и конец",- пронеслась в голове у Якушева мысль. Она еще не успела впечататься в его сознание, как он снова нажал на гашетку и вторая более длинная и более хлесткая трасса вырвалась из ствола пулемета и располосовала небо, оборвавшись у самого капота атакующего немецкого истребителя. "Фокке-вульф" как-то странно клюнул на нос, потом, будто пилотировавшему его фашистскому летчику захотелось некоторое время пролететь головой вниз, перевернулся на живот и помчался с воем к земле, пятная солнечный воздух черно-красным, широко распускающимся с каждой секундой за собой следом.
Второй, прикрывавший его истребитель, скользнул куда-то вниз, выходя из боя. Пресекающийся от волнения, ликующий гортанный голос Бакрадзе ворвался в сознание:
- Венька, так ты его сбил! Слышишь, ишак!
- Да... кажется, - пробормотал Якушев, чувствуя, как прилипают к холодной шее ларингофоны.
- Идиот, что значит "кажется"! - весело оборвал его Бакрадзе. - Сам-то цел?
- Цел. - Откинувшись на бронеспинку, стрелок жадно глотал раскрытым ртом воздух. Он видел остающуюся позади желто-зеленую предосеннюю землю и столб черного пламени на месте взорвавшегося истребителя. Костер этот все уменьшался и уменьшался с каждой секундой полета и наконец совсем исчез из вида. На мгновение Вениамину показалось, будто не было и вовсе ничего: ни зловещей тени "фокке-вульфа" за кабиной, ни промчавшейся мимо их самолета его трассы.
- Ты! - вскричал Климов на земле. - Ты ухлопал "фоккера"? - И острыми зелеными глазами сверкнул на Якушева. - Ну и лирик. Не знаю, получится ли из тебя второй Лев Толстой, но отменный воздушный стрелок уже получился. Ах, какой молодец! И ты, Бакрадзе, молодец. Ваша шестерка почти уничтожила бронепоезд. Из штаба фронта передали: вам не кто-нибудь, а сам маршал Рокоссовский объявил благодарность. Всем шести экипажам. Тебя, Веня, представляем к ордену Красного Знамени...
- У меня есть к тебе, командир, просьба. Дай мне свой "виллис". Часа на три, мне в Сенницу съездить надо.
- К связисточкам, что ли? Дам машину. Я сегодня добрый...
Второй раз па протяжении одного и того же дня командирский "виллис" промчался по единственной улице села Сепница, по обе стороны которой жались друг к другу крестьянские домики. Ефрейтор Голубкин, сидевший за рулем, безмерно удивился, узнав, что остановить машину ему надо у той самой хатенки с нахлобученной камышовой крышей, у которой они уже останавливались утром, высадив там попутчицу связистку, но ни одного вопроса не задал. Он только подумал про себя о Якушеве: "Ну и тихоня".
- Подожди здесь, - коротко распорядился Веня и, начальственно хлопнув дверцей, круто повернул к частоколу, полный тревоги и робости.
Глядя ему в след, шофер пожал равнодушно плечами. Давешняя девушка ему явно не приглянулась, но сейчас он философски подумал: "Что поделаешь, любовь зла, полюбишь и козла".
Издали Веня увидел, как вздрогнула и приоткрылась на крайнем окошке занавеска и девичья головка в кудряшках прильнула к стеклу. "Нет, это не Тося, - заволновавшись, подумал Якушев. - А что, как она не выйдет? Если нет, сам постучу, иначе что же я за размазня".
Занавеска задвинулась, и Веня замер в напряженном ожидании. "Ну и пускай не выходит. Не свет же, в конце концов, клином на ней сошелся? Но дверь, ведущая во двор, очевидно, распахнулась, потому что он услыхал, как по деревянным ступенькам крыльца, простучав каблучками, выбежала девушка и по притоптанной дорожке, рассекавшей двор, быстрыми шагами заспешила к калитке.
- Это вы? - не делая никакого удивления, спросила она, перешагивая через порог на улицу.
Ветерок взметнул на ее плохо поддающемся загару высоком лбу челку, а светло-серые испуганно-веселые глаза с застенчивостью уперлись в него:
- Ой, товарищ старший сержант, как хорошо, что вы приехали. Мое дежурство на радиостанции отменено, и я до самого утра свободна.
Они долго молчали, не зная, о чем говорить дальше. Тося оказалась находчивей.
- Хотите, я вам окрестности нашей деревушки покажу, - сказала она с трудом дающейся бойкостью. - Вы не шутите, поблизости здесь даже исторический памятник есть. В дремучие прошлые века какой-то завоеватель тут побывал, не то сам Чингисхан, не то его сын Батый. Но как у вас со временем? - Она неожиданно прервала свою бойкую речь и смущенно повторила свой вопрос.
- Мое время - это вечность, если вечностью можно считать весь сегодняшний день, - нелепо ответил Веня. - Надо лишь два слова сказать водителю, и точка, - досказал он, стараясь как можно тверже произносить слова, чтобы не выдать своего опьянения. - Главное в жизни - это всегда ходить пешком. Тося. Вот хан Батый мало ходил пешком, он больше на рысях, поэтому его все-таки и разгромили где-то тут, так что он еле ноги унес к себе на восток.
- Конечно, - рассмеялась Тося, блеснув золотой коронкой, снимая этим смехом напряжение первых минут их встречи.
- Будешь много ходить пешком, много узнаешь, - продолжал Якушев. - А то вот я здесь вас утром высадил, а сейчас даже этот милый домик с зелеными ставенками, в котором вы живете, не сразу нашел.
- Это прекрасно, что нашли, - заулыбалась девушка, расправляя складки над ремнем, перепоясывающим ее габардиновую гимнастерку. - Только ставни у нас не зеленые, а голубые. - Она, смеясь, заправила под выгоревшую пилотку выбивавшуюся на лоб челку и окопчатально повеселела. - А сейчас вы меня извините, я вас на пять минут покину. Надо подругу, мою сменщицу, предупредить, что ухожу.
- Да, да, - нетвердо произнес Якушев, - путь к познанию - это движение, и я вас великодушно отпускаю на те минуты, о которых вы сейчас обмолвились, и даже больше, гораздо больше, потому что готов вас ждать целую вечность, ибо свободен до завтрашнего утреннего построения.
- Не беспокойтесь, этого не потребуется, - рассмеялась Тося, убегая.
Возвратившись, она переспросила:
- Значит, вы свободны до завтрашнего построения? Это правда?
Он вдруг почувствовал необыкновенное расположение к девушке и нелепо повторил:
- Да, да, до завтрашнего утреннего построения. Сашка Климов так и сказал.
- Кто, кто? - неуверенно поинтересовалась девушка. - Климов? Здесь действительно есть командир полка Климов. Мы всегда связываемся с его летчиками, когда они идут на боевое задание или возвращаются с него.
- Вот именно, - закивал Веня тяжелой головой. - Это он и сказал.
Девушка недоверчиво пожала плечами, но опровергать его не решилась.
- А где же ваша автомашина? - спросила она через минуту.
- Да она уехала, - беспечно махнул рукой Веня. - Солдата надо было на ужин отпустить.
- Но ведь до аэродрома вам десять километров шагать.
- Ну и что же, - возразил он. - Я ее отпустил, потому что Сашка Климов станет ругаться, что шофер остался без ужина.
- Постойте, - засмеялась Тося. - Это вы так фамильярно говорите о своем начальнике?
- А он мне друг, - добродушно пояснил Веня. - В детстве он мне однажды поставил порядочный синяк, потому что имел преимущество. Мне не было еще восьми, а ему шел тринадцатый. Вот мы с тех пор и не можем обходиться друг без друга. Видите, какая взаимосвязь... как в диалектике.
- А вы даже диалектику изучали? По какому учебнику? - заинтересовалась Тося.
- По краткому курсу изучали каждый год, пока срочная служба шла,- ответил Веня.
У Тоси под узкими выгоревшими бровками весельем ожили глаза:
- Боже мой, до чего же вы хороший собеседник! Только куда же мы сейчас пойдем?
- Реликвию... Смотреть реликвию. Надгробный камень в честь хана Батыя.
- В честь разгрома его, - поправила Тося.
- А это все равно, - махнул рукой Веня. - Хан Батый нам сейчас, как любит выражаться наш авиамеханик Максимович, до лампочки. Важно, что его полчища тут были разбиты. Впрочем, и это неважно. Когда-то он проходил, когда-то разбили, а потом в основном забыли, если студентов, сдающих историю, не брать в расчет. Нам бы Гитлера поскорее расколотить. Только пусть не рассчитывает, что на этой земле ему могильную плиту кто-то поставит.
И они пошли по единственной сельской улице, уводящей на запад.
Как и всякий редко пьющий человек, Веня стыдился сейчас и своего пылающего лица, и помутневших после спирта глаз, и своей не всегда ровной и от этого слишком уж выпрямленной походки. Он хорошо уже по собственному житейскому опыту знал, что именно в тех случаях, когда ты хочешь что-то скрыть, это "что-то" со всей своей необузданной силой прорвется наружу в самый неподходящий момент.
Они шли по прямой улице села мимо низкорослых изб под нахлобученными на них крышами, в большинстве деревянными, реже из листового железа, мимо палисадников и возвышающихся над срубами колодцев журавлей с прицепленными к ним пустыми цинковыми ведрами. На завалинках в ветхой одежде сидели невозмутимые старики и старухи, молчаливые. Никто из них Якушева и Тосю не окликнул, не проявил интереса к их появлению: мало ли людей в военной форме проезжает и тем более проходит ежедневно по этой единственной улице!
На месте двух крайних изб остались одни пепелища. Обугленные стены смотрели мрачными провалами окон. Заметив, что ее спутник замедлил шаги, Тося грустно произнесла:
- Здесь партизанские семьи жили. Их каратели... - и на этом оборвала свою речь.
За околицей скорбный ветерок с голых нераспаханных нолей плеснулся в их лица. Веня искоса посмотрел на спутницу. Как он, оказывается, плохо рассмотрел ее при первой их встрече. Сейчас она показалась куда интереснее. Тонкие хромовые сапожки в обтяжку плотно облегали ее прямые ноги. Мягкие погоны с замысловатыми эмблемами военного связиста были старательно пришиты к гимнастерке, над воротником которой едва заметной белой каемочкой проступал подворотничок. Девушка была высокой, сначала Якушеву даже показалось, что она выше его. Тося шла с зажатой в руке пилоткой, с непокрытой головы на ее чистый, без единой морщинки, лоб спадала светлая прядка. Когда она улыбалась, стайки мелких морщинок разбегались в углах рта, совсем как круги по воде на чистом, незамутненном озере. Из-под длинных ресниц глаза все добрее и добрее вскидывались на него.
Веня рассказал о себе.
- А я и подумать бы не могла, что вы воздушный стрелок, решила, что из штаба или максимум моторист...
- Почему максимум?
- Потому что для меня каждый человек, который летает в бой, - это просто рыцарь, - покраснев, призналась она.
- Спасибо за комплимент, - отозвался Веня.
Полевая дорога уводила вдаль от околицы этой бедной белорусской деревушки. В поле их опахнул прохладный для вечернего дня ветерок. На западе застыли багровые отсветы заката, и с каждой минутой становилось темнее. Веня уже все узнал о своей спутнице. И то, что она из далекого от фронта Новосибирска, окончила два курса института и ушла на фронт, что у нее старший брат пропал без вести, а отец погиб в боях подо Ржевом и только одинокая старенькая мать ждет теперь ее с фронта.
- Вот видите, я вам все рассказала, будто анкету в отделе кадров заполнила, - усмехнулась Тося, и улыбка у нее была какой-то робкой и виноватой, как будто она обожглась и от этого закусила губы.
Чем дальше они удалялись от села, чем длиннее был их разговор, тем все понятнее становилась ему эта девушка, и Веня исподлобья с явной симпатией поглядывал на нее.
- Тося, а вы знаете, о чем я сейчас подумал?
- О чем же? - заинтересованно спросила она.
Веня остановился и, зажмуриваясь, сказал:
- А вот если бы за эту минуту, пока я ничего окружающего не вижу, произошло бы фантастическое событие. Если бы какая-нибудь фея вас переодела. Вместо солдатской гимнастерки - яркое шелковое платье, вместо хромовых сапог - туфли лодочки, а на плечах - сиреневая прозрачная косынка. Я не уверен, что вы, пройдя мимо, удостоили бы меня взглядом.
- Открывайте глаза, мечтатель, - грустно улыбнулась Тося, - я все та же.
- Вот и хорошо, - пробормотал Веня. - И не хочу я, чтобы вы менялись. Вы для меня и сейчас как фея.
- Да уж куда там, - грустно откликнулась девушка, и они пошли дальше.
Где-то на западе, словно большой зверь проворчал, глухим раскатистым эхом прокатилась артиллерийская канонада. Звено высвеченных заходящим солнцем белоснежных двухмоторных пикирующих бомбардировщиков "петляковых" промчалось над их головами к своему аэродрому на восток. Веня остановился и, запрокинув голову, посмотрел им вслед. Он вдруг ощутил тяжкую боль в голове и с досадой подумал: "Черт бы побрал этот самый спирт. Зачем я его так много выхлестал. В ушах целый духовой оркестр играет, воды-то хочется, а мы уже так далеко ушли от околицы".
- Какой прекрасный закат, - заметила в эту минуту Тося, мечтательно запрокинув голову и вглядываясь в даль.
- Да... Рассвет удивительно красив... Сюда бы Левитана, - пробормотал он.
"Что за остроумный парень", - подумала Тося и звонко расхохоталась. Смех ее где-то вдали подхватило эхо. Внезапно он резко оборвался.
- Постойте, но ведь вы же, вы... - с грустью и раздражением проговорила она.
- Что я? - удивился Якушев.
- Вы же пьяны, Веня, - как-то разочарованно договорила девушка, и столько брезгливости и горечи прозвучало в ее голосе, что он неожиданно подумал: если сейчас ей не скажет каких-то веских оправдательных слов, то еще зыбкая, едва наметившаяся пунктиром ниточка, вдруг сблизившая их обоих, оборвется.
- Черт бы побрал эту проклятую "климовку", - пробормотал он.
- Климовку? А что это такое? - заинтересовалась Тося, и голос ее сразу оттаял.
- А это мой командир так свое изобретение называет - чистый спирт, лишь чуть-чуть разбавленный водой. Впрочем, на всех почти аэродромах его называют "ликер гаасси".
- Надо же, - брезгливо поморщилась связистка и поглядела на него укоризненно: - И вы, Веня, часто прибегаете к услугам этой самой "климовки"?
- Да нет, сегодня единственный раз в жизни ее попробовал, - огорченно вздохнул старший сержант. - Вы не сердитесь, Тося, при следующей встрече этого не случится, а сегодня повод был.
- Какой же, если не секрет? - быстро спросила она.
- А вы угадайте.
- День рождения?
- Нет.
- Неужто годовщина полка, а мы, поддерживающие с вами связь, об этом ничего не знали?
- Тоже нет.
- Может быть, звания старшины вас удостоили?
- О! Если бы это, я приехал бы к вам в новеньких погонах.
- Тогда я, право, теряюсь в догадках.
- Эх, Тося, - укоризненно засмеялся Якушев. - "Фокке-Вульф - сто девяносто" я сегодня приложил в воздухе, второго за все свои боевые вылеты. Понимаете?
Тося остановилась, глаза ее под тонкими бровками напряженно замерли:
- Да ну... Вот было, наверное, трудно. Ведь вы же не истребитель, а штурмовик, я и то знаю, что это разные вещи.
- И плюс к тому еще всего-навсего воздушный стрелок, а не летчик, у которого в передней кабине мощное оружие.
Тося остановилась и доверчиво положила тонкую кисть руки на его локоть:
- Веня, а с фашистским самолетом бой было вести страшно?
- Еще бы, - без улыбки ответил он. - У нас даже анекдот на эту тему ходит. Будто посадили в заднюю кабину пастуха-горца вместо стрелка, а он увидел, как с хвоста заходит в атаку пара "мессершмиттов", и даже окаменел от страха. Командир кричит: "Открывай огонь", а горец упал на колени, глаза закрыл, чтобы не увидеть, что произойдет дальше, и стал молиться: "О великий аллах, спаси раба своего".
Тося сузила глаза от смеха:
- И аллах услышал?
- Нет, летчик из первой кабины услышал.
- И что же сделал?
- На крепком авиационном жаргоне в три этажа поговорил и гауптвахтой пригрозил, если они оба на тот свет попадут. Убедил, что и там у великого аллаха есть для трусов гауптвахта. Тогда стрелок-горец от страха опомнился, за турель взялся и сбил "мессершмитт".
- Уж не хотите ли вы сказать, что и с вами сегодня такое было?
- Едва ли, - ответил Веня не сразу. - Такого не было. Это только в наших авиационных байках так повествуется. Л в действительности все проще и страшнее. Я тоже едва не окаменел, увидев, что он в атаку прет, вот-вот очередь даст. Каждую заклепку на его капоте вижу. Я же по пояс ничем не защищен. Первая очередь - и конец. На какую-то секунду раньше, чем фашистский пилот, огонь открыл. А потом командиру кричу дрожащим голосом, едва не заикаясь от страха и радости: "Он горит!" Тот даже не понял сначала. У меня командир - идеальный, капитан Вано Бакрадзе. Мы с ним еще в сорок первом на СБ горели.
Веня почувствовал, как сжали его локоть Тосины пальцы, и весело закончил:
- Вот поэтому и пришлось в командирской палатке за кружку со спиртом взяться. Что поделаешь, если в авиации на войне не изобрели еще лучшего способа отмечать удачи. Впрочем, если даже изобретут, то старый способ все равно будет лучше. Л теперь... теперь иду рядом с вами. Помните, Тося, у Пушкина есть строки:
И если смилуется бог, И коль не буду я повешен, То буду я у ваших ног, В тени украинских черешен.
- Я помню эти стихи, - воскликнула спутница. - Так вот по какому поводу вы сегодня выпили эту самую "климовку"! - без укора произнесла она. - Тут уж вас порицать я бессильна. Поздравляю с удачей.
- А скоро, возможно, и с орденом, - похвастался Венька.
Ободок поблекшего солнца уже скрылся за зубчаткой близкого леса, багряно осветив на прощание окрестности, и сразу вокруг стало так темно, что дорога, по которой они шли, даже в тридцати каких-нибудь метрах уже не просматривалась.
- Давайте возвращаться, - предложила Тося. - Смотрите, какая темепь вокруг, а мы уже так удалились от деревни.
- Успели соскучиться по своим подругам? - беспечно спросил Вениамин.
- А я вам об этом не говорила, - прищурилась связистка. - Это я просто так, не подумав. - Она не видела его лица в темноте, лишь теплое дыхание на щеке своей ощутила.
- Мне хорошо сейчас с вами, - тихо признался Якушев. - Так хорошо, что лучше не надо, Тося... - Он протянул к ней руки, и она их не оттолкнула.
Губы у нее были жесткие и холодные. Чуть отстранившись после поцелуя, она продолжала держать свои ладони на его плечах, будто желая рассмотреть в темноте его лицо получше.
- Вы только не подумайте, что я живу по заповеди некоторых своих подруг: война все спишет.
Вместо ответа он крепко прижал ее к себе, ощутив на щеке пряди ее встрепанных волос, задышал в самое ухо:
- Нет, вы не такая, Тося... Я верю, что не такая, иначе как было бы горько разочароваться, и не только в вас, а во всем окружающем. В жизни, которая лишает тебя самого светлого.
- Ты этого не лишишься, Веня, если поверишь, - зашептала она, обдавая мочку его уха теплым дыханием.
Он плохо запомнил, как очутились они в какой-то заброшенной риге, как по узкой приставной лестнице забрались на сеновал, как шуршала гимнастерка, сбрасываемая Тосей. Он осыпал ее поцелуями, а потом жаркое их дыхание смешалось.
...Якушев проснулся оттого, что острый луч рассветного солнца коснулся его лица, и тотчас же память вернула ему все произошедшее. Быстрым движением он ощупал рядом с собой удушливо пахнущее свежее сено и натолкнулся на пустоту. Испугом наполнила сознание мысль о том, что она ушла, и он порывисто приподнялся на локтях. Нагая Тося стояла над ним, заложив голые руки за голову, и от этого снова знобко перехватило дыхание. В еще не совсем осмелевших проблесках утреннего солнца тело ее казалось розовым. Он робко прикоснулся к ее колену и так же робко прошептал:
- Ты... ты, - и запнулся.
- Ну что? - внезапно перебила вдруг Тося. - Скажи еще, что Венера, Афродита, амазонка какая-нибудь, только без лука. Это уже было... было, понимаешь? - И она заплакала. Заплакала тихо, горько и безутешно.
Якушев ее пе успокаивал. Зашуршало сено оттого, что он медленно встал, вырвал из редеющего мрака ее, горячую, вздрагивающую, привлек к себе. Соленые ее слезы ощутил у себя на губах.
- Ты меня бросишь, - прошептала она. - Бросишь, как тот, у которого потом оказалась в далеком тылу жена, получающая по аттестату деньги, которые мне, разумеется, абсолютно не были нужны. Какой я дурой была в первые месяцы войны! Страх, бомбежки, паника. Какой безвольной все это меня сделало!
Обнаженная в отступающей перед засверкавшим солнцем полутьме, она стояла перед ним и не торопилась нагнуться за одеждой, постепенно успокаиваясь.
- Какая ты красивая, - прошептал Веня. - Глаз не отведешь от тебя.
Она вызывающе вскинула голову, подтвердила с гордым смешком:
- Красивая... Правда красивая?
- За таких, как ты, в древние времена рыцари выходили на поединки. А я? Что я могу сделать, жалкий воздушный стрелок энского полка? Еще одного фрица сбить, если он не успеет нажать гашетку первым? - Он хотел прибавить: "Рассказ о тебе написать", но смолк, устыдившись. Он никому из тех, кто не знал, что он пишет и печатается, никогда не говорил об этом. - Женщина - это чудо, - прошептал Веня, наблюдая за тем, как она гибко наклоняется за одеждой, чтобы прикрыть свою наготу.
- Да уж какое там чудо, - кокетливо засмеялась Тося, просовывая тонкие, убереженные от загара руки в рукава гимнастерки. - Просто приглянулась тебе, вот и вообразил, чудачок.
- Нет-нет! - пылко воскликнул Якушев. - Сущую правду тебе говорю. Я никогда не думал, что ты такая. А то, в чем ты мне призналась, никакого значения не имеет, и давай об этом не вспоминать. Не тема, как у нас в полку иногда говорят. Были и у меня две женщины. Калмычка Цаган и медсестра Лена. Одна спасла меня в буран в дикой степи, другая ушла в тыл с разведчиками и подорвала себя гранатой, чтобы не захватили ее немцы живой и не надругались. Это Лена так погибла.
- Когда-нибудь расскажешь?
- И расскажу, - распалился Веня. - И не когда-нибудь, а сегодня. К тебе прийти можно?
- Жадный, - засмеялась Тося. - Смотри не ошибись.
- Почему?
- Потому что будем часто встречаться, могу разонравиться.
Она деловито взглянула на часики, которые застегивала на руке:
- Ой, а ты не опоздаешь на построение?
- Нет, - повеселел Якушев. - Никогда, будь уверена. В полк и к тебе опаздывать нельзя. Устав покарает.
- Не только устав, но и я, - прибавила Тося.
Каждый день солнце, как ему и подобало, вставало на востоке и опускалось на западе, за линией фронта, освещая меркнущими лучами пепелища на месте сожженных фашистами деревень, ослепшие от выбитых взрывной волной глазницы окон в пустых хатах, обугленные, почерневшие от дыма избы в деревнях и селах и разрушенные кварталы в больших городах, по которым беспощадной поступью проходила огромная война, откатываясь все дальше и дальше от многих наших городов и весей. И все радостнее звучал голос московского диктора, которым зачитывал тот сводки Совинформбюро, потому что не проходило дня, чтобы на огромном протяжении советско-германского фронта не был бы освобожден какой-нибудь новый город, крупный опорный пункт или выиграно на земле, в воздухе или на море очередное сражение.
А в зимние месяцы 1945 года вал наступления с новой силой двинулся на запад и на штабных военных картах 1-го Белорусского фронта, как близкие цели, появились закабаленные оккупантами города: Варшава, Краков, Познань, Торунь.
Полк Александра Климова стоял в начале января сорок пятого года вблизи от левого берега Вислы. Отзвуки почти не прекращающейся артиллерийской перестрелки были слышны за десятки километров окрест. То и дело, лавируя между зенитными разрывами, группы "ильюшиных", "лавочкиных" и "петляковых" наносили удары по фашистским узлам сопротивления.
А потом настал день, и двинулся вперед, прокладывая дорогу к Берлину, весь фронт.
В первый день наступления звено Вано Бакрадзе сделало три вылета и никто из летчиков, побывавших над полем боя, ни одной серьезной пробоины не привез. Слишком слабым и хаотическим был огонь фашистских зенитчиков. В наспех выпущенных боевых листках жирными красными буквами была выведена и фамилия Якушева.
Веня читал короткий текст, когда чья-то крепкая рука легла на его плечо. Обернувшись, увидел улыбающееся лицо командира полка Климова.
- Здорово, земляк. Когда будешь докладывать, не забывай теперь, что я уже полковник. Вчера командующий фронтом приказ подписал. А ты заметку про себя читаешь? Ну, что же, правильная заметка. Был в штабе дивизии у Наконечникова, дивчина твоя подходила, велела пакет вот этот передать. Извини, что он помялся в кармане немного. Ладно, читай и наслаждайся, не буду лишать тебя уединения. - Он ухмыльнулся и договорил: - Между прочим, их рота связи сейчас в одной веске со штабом дивизии, куда я, как тебе известно, время от времени езжу. Могу захватить.
"Виллис" умчался, оставив на снегу два гофрированных следа от покрышек. Якушев разорвал конверт и на обороте какого-то фирменного бланка прочел: "Веня, трусом не будь, но береги себя. Кажется, случилось так, что в самом недалеком будущем ты станешь родным и еще для одного человека". Он ковырнул от неизъяснимого волнения оседающий сугроб носком унта и, ощутив радостное тепло, подумал о Тосе. Как все это неожиданно! Разве мог он даже вообразить, что так быстро такими близкими они станут?
А вскоре зеленая ракета прочертила небо над аэродромом и позвала его в кабину "ила". Они с Бакрадзе около часа просидели в готовности "номер один", ожидая команду на вылет, но небо над летным полем, низкое и свинцово-серое, так и не прояснилось. А с запада нахлынул туман, и командир полка снял боевую готовность.
Якушев не удержался и на попутном "виллисе", с которым писарь отвозил в штаб дивизии боевое донесение, поехал разыскивать Тосю.
Пришло время, когда солдаты и офицеры уже не жили в закоптелых землянках с подслеповатыми окошками, заклеенными плексигласом, а размещались в крестьянских домах с побеленными потолками и стенами, цветочными горшками на подоконниках и образами Иисуса Христа и Матки Боски Ченстоховской в затемненных углах.
Тося жила в небогатой с виду хатенке с подругой телеграфисткой, которая по счастливой случайности дежурила в этот день на узле связи.
- Боже мой! - всплеснула она руками и бросилась расстегивать пуговицы на его взмокшей от весенней капели куртке. - Да ты как с неба свалился. Наверное, никто не обладает такой редкой способностью появляться, когда его меньше всего ждут. Скорее раздевайся. Надолго ли? - И, не дожидаясь ответа, озаренным радостью лицом ткнулась ему в грудь.- Ты, конечно, мою депешу получил?
- Еще бы! - весело подтвердил Якушев.
- И как к ней отнесся?
- Положительно.
- Только и всего? - пристально взглянула она из-под светлых бровей.
- Да нет, - поправился Веня. - Возликовал, конечно.
- Ну, так вот, - нравоучительно произнесла Тося, - мы с тобой оба ошиблись. Ты в своей преждевременной радости, а я в своем преждевременном предположении. Однако ты не расстраивайся, все это у нас впереди, милый. - И она прижалась к его лицу жаркой своей щекой. - Как это хорошо, что ты до утра будешь со мной! Если бы ты еще летать перестал, глупый.
- И две путевочки - тебе и себе попросил у командира в черноморский санаторий, куда-нибудь в Сочи, подальше от фронта.
- Какой ты вредный, Веня, - осадила она.
- А ты еще сомневалась, - дурашливо ухмыльнулся Якушев.
С черного незатейливого коврика, повешенного над скрипучей железной койкой, с почтовой цветной открытки, весело подмаргивая, смотрел на них Чарли Чаплин.
- Отвернись, бесстыжий, - обратилась к нему Тося и потянулась к Якушеву: - Ой, Веня, как же я тебя ждала на этом новом месте...
Якушев лишь наутро возвратился в полк за несколько минут до построения, и, когда появился на стоянке, Вано сердито сказал:
- Почему чуть не опоздал, не спрашиваю, но, если когда-нибудь еще так явишься, шкуру спущу, как тот сердитый грузин Ломидзе, который пообещал это же сделать своему любимому ишаку за то, что тот отказался везти на Авлабарский базар бурдюк с кахетинским вином.
Якушев, скроив удивленное лицо, полюбопытствовал:
- А почему же он отказался это сделать, командир?
- А потому, что был умнее тебя, Веня, и сказал при этом, что не позволит ронять свое достоинство.
- Достоинство? - захохотал прислушивавшийся к их диалогу Максимович. - Братка ты мой, да откуда же у ишака еще и достоинство?
- Помолчи. То был очеловеченный ишак по прозвищу Гоги, и он заявил, что кахетинское не повезет, а повезет только бочонок с хванчкарой - этим благородным напитком богов и джигитов Кавказа.
Красная ракета с треском взлетела в воздух и оборвала их веселый говорок. Уже в кабине, включив СПУ, Якушев услышал гортанный голос командира:
- Веня, будь повнимательнее. На нашем участке фронта "мессеры" появились из эскадры самого Мельдерса.
- Мельдерса мы еще не били, командир, - лаконично отпарировал стрелок.
Тяжелый Ил-2 протащился по раскисшему полю грунтового аэродрома на взлетную полосу и вскоре по зеленой ракете начал разбег, увлекая за собой три ведомые машины.
И опять штурмовики бомбили немецкие батареи и склады с боеприпасами, опять пикировали на замаскированные срубленными елями орудия, опять прорывались сквозь зенитный огонь и на пути к цели и отходя от нее.
...Дни мелькали вместе с оторванными листками календаря. На новых картах, розданных перед очередным рывком всего фронта на запад, уже появились названия подлинно немецких городов, и в их числе Заган, Шпротау, Кюстрин, Франкфурт-на-Одере, Коттбусь, даже Штеттин.
Однако и сейчас воздушная армия ежедневно несла потери. Кто-то из летчиков сгорал над целью, кто-то в последней попытке дотянуть до своего аэродрома падал на неуправляемой машине почти на его границе, и его, обожженного, молчаливого, поднимали из-под почерневших обломков, чтобы достойно похоронить под скупые залпы винтовочного салюта. А в отделе кадров уже на другой день думали, кого и куда из летчиков передвинуть, чтобы заполнить брешь. Именно в итоге такого стечения обстоятельств Вано Бакрадзе был назначен на должность командира эскадрильи и как-то пошутил перед вылетом:
- Теперь смотри, Венька, мы уже не только за четыре аэроплана отвечаем, но и еще за восемь. А у нас всего четыре глаза: у самого комэска, стало быть у меня, два и у его воздушного стрелка, то есть у тебя, тоже два.
Он шутил, но шутил как-то невесело, и взгляд у него был какой-то вялый. Якушев, глядя на грузина, сострадательно думал: "Устал ты, дружище, чертовски устал". Вано всегда откалывал Золотую Звезду Героя со своей гимнастерки, если предстоял боевой вылет. Когда это сделал в первый раз, скупо сказал:
- Максимовичу, что ли, отдать на временное храпение. Он на земле, он сбережет, если со мной что случится.
- Что ты, что ты! - взорвался Якушев. - Прекрати эти заупокойные речи. Если ты погибнешь, значит, и я погибну. Самолет-то один. А я жить хочу... Понимаешь, жить.
- Понимаю, - перевел все на шутку грузин. - Тебя твоя Тося околдовала. А как же Леночка, та, что в госпитале под Москвой ухаживала за тобой, мной и Сошниковым?
Якушев опустил голову, снял шлемофон, ладонью расчесал спутанные волосы и задумался:
- Не трожь, Вано, старую рану. Лена всегда со мной, но ведь жизнь-то одна.
- Да, одна, - невесело подтвердил грузин. - И жаль мне тех, кому еще предстоит с ней расстаться в последние дни войны.
И было странным, что через несколько часов после этого разговора Веню на рассвете растолкала Тося, у которой он оставался ночевать:
- Ты проснись, сейчас же проснись.
Якушев неохотно повиновался. Тося сидела в постели, наклонившись над ним. Бретелька сползла с ее левого плеча. Обдавая его горячим дыханием, она сурово спросила:
- Ты скажи, как на исповеди скажи, твоя Лена, она была лучше?
- Да что вы, сговорились, что ли, - пробурчал он. - Днем командир допрос учинил, ночью ты об одном и том же спрашиваешь. Спи.
- Нет, ты ответь, лучше или хуже?
- Она была другая, - проговорил он неохотно. - Совсем другая. Двух человек абсолютно одинаковых на земном шаре не бывает.
После долгой изнурительной паузы Тося глубоко вздохнула:
- Нет, она была лучше... Но только я тоже бы так поступила, окажись на ее месте.
Якушев нежно погладил теплое плечо Тоси, тихо сказал:
- Ладно, не спрашивай больше у меня о ней, еще память не остыла.
В тот день он вдруг вспомнил об этом ночном разговоре в самое неудобное время, когда их эскадрилья заходила на цель. Под плоскостями двенадцати "илыошиных", парами вытянувшихся над передним краем вражеской обороны в колонну, лежала ощетинившаяся огнем земля фашистской Германии. Пара за парой пикировали штурмовики на вражеские окопы, хлестали пушечным огнем по замаскированным фашистским артиллерийским позициям. От близкого разрыва машину резко встряхнуло, и в наушниках прозвучал свирепый голос Бакрадзе:
- Ты что? Стихи там пишешь, что ли, или завещание от нас обоих? Очередь по зениткам. Очередь, тебе говорю!
Внизу под острым килем штурмовика распустилось облачко дыма от разорвавшегося снаряда, и самолет встряхнуло.
- Задери нос! - прокричал стрелок, но Бакрадзе уже и без его команды понял, что надо делать.
Он успел заставить их "шестерку" устремиться вверх, так что земля и лесная опушка, с которой били зенитные батареи противника, оказалась в поле зрения у Якушева и тот дал по ним очередь. Колонна перестроилась в четверки, и они группой спикировали на батареи. В пролысинах между темными лохматыми соснами вспухли бомбовые разрывы, и вдруг огромный столб огня и дыма встал над их верхушками. Горячая волна чуть-чуть, как показалось Вениамину, взболтнула самолет, и он услышал ликующий голос комэска:
- Веня, гляди, доигрались фрицы, это наши бомбы подняли их склад с боеприпасами. Переходим на бреющий, гляди в оба.
Якушев увидел позади их группы четверку крестатых "фокке-вульфов", но она даже не успела зайти их эскадрилье в хвост. Сверху обрушились на нее истребители прикрытия и мгновенно при первой же атаке зажгли две фашистские машины.
Когда "илы" все до единого пришли на аэродром и уже встали на круг перед посадкой, в наушниках шлемофона Бакрадзе услыхал ликующий голос Климова:
- Молодцы-донцы! - весело кричал командир полка.- Пехота после вашей атаки и этот узел сопротивления разгрызла, как орешек.
Это были дни великого напряжения для летчиков полка, когда экипажам приходилось ежедневно по три, а то и четыре раза штурмовать самые разные цели: то опорные пункты, то маленькие города и поселки, то аэродромы и железнодорожные станции. И уже летчики климовского полка не ходили на цели четверками или парами, как это бывало год назад. Штурмовали теперь большими группами, а иногда и всем полком, построенным в кильватер звеньев, а то и эскадрилий, и часто бывало, что при приближении такой армады все живое в стане противника разбегалось и пряталось в щели. Распухали летные книжки от новых записей о боевых вылетах, почти каждый день приходили телеграммы о награждении то одного, то другого пилота, воздушного стрелка, авиационного техника или механика орденом или медалью.
И, не таясь даже от командира полка, офицеры и сержанты хорошо выпить за это в перерыве между боевыми полетами умели. В тех случаях, когда вручался орден или медаль, опускалась на дно какой-нибудь аэродромной жестяной кружки награда и только из пее полагалось пить виновнику торжества.
Но в эти же дни, когда офицерам и сержантам вручали награду, редко-редко, но приходилось авиаторам копать где-нибудь на окраине аэродрома в осклизлой немецкой земле могилу и опускать в нее в наспех сколоченном гробе своего однополчанина: летчика, сумевшего почти мертвым посадить израненный "ил", или воздушного стрелка, поникшего еще в полете окровавленной головой на турель, навсегда отговорившего по СПУ. Тогда нестройно гремел оркестр, сухо щелкали винтовочные салюты и вырастал на неласковой чужбине за тысячу с лишним верст от его родного города или деревушки скромный холмик, увенчанный пирамидкой с пятиконечной красной звездочкой или деревянным пропеллером, специально изготовленным в ПАРМе на этот случай. И навсегда исключался из строевых списков полка этот юноша, дожить которому до окончания войны хотелось не меньше других, и проливала где-то вдали от фронта слезы его скорбная мать или одряхлевший отец.
Но и в эти жестокие дни всегда торжествовала жизнь над смертью, справедливость над несправедливостью, великодушие и доброта над злом.
Климов разрешал Якушеву, когда это позволяла обстановка, уезжать на попутных машинах в маленький затрапезный немецкий городок, на окраине которого размещалась рота связи, и даже давал для этого иной раз машину. И бывало, что Веня засыпал с тяжелой головой, одурманен-пой бензиновыми парами и треском воздушпой стрельбы, в одной кровати с Тосей и не было человека счастливее его в это время. Среди ночи она иной раз обдавала его жарким шепотом:
- И у тебя еще остались силы на любовь. Боже мой, какая я счастливая.
А утром снова полковое построение и отрывистая, сухая, как выстрел, речь Климова, ставящего боевую задачу перед экипажами. Плотный коротконогий начальник штаба Скрипалев, человек средних лет, с вечно покрасневшими от бессонницы глазами, любивший повторять: "На войне как на войне, кто спит восемь часов в сутки, кто пять, а начальник штаба, по не уточненным данным, всего три", кратко его дополнял, обращаясь к одним только летчикам и воздушным стрелкам:
- Найдите на картах городок Гейденау. Все нашли, товарищи летчики? Южнее этого городка лес. По данным воздушной разведки, здесь танковый полк противника. До цели двенадцать минут полета. Заходить надо с курсом двести шестьдесят три градуса. Если цель прикрыта плотным огнем зениток - одна атака с ходу, и баста. Если противодействие слабое, замкнуть круг и штурмовать, снижаясь до бреющего. Висеть над опорным пунктом противника не менее десяти минут. Количество заходов определяет ведущий.
- А прикрытие? - раздавался из строя чей-нибудь простуженный голос, и начальник штаба охотно пояснял:
- Прикрывать вас будут двенадцать истребителей полковника Рязанова. Видите, какая честь. Это не то что в сорок первом и сорок втором. Довольны?
- Еще бы! - раздавался из строя чей-нибудь голос- Это же один к одному получается. На один Ил-2 один "як" прикрытия. Вот до каких времен дожили! Это не то что под Сталинградом или на Орловско-Курской дуге. Вот как войну кончаем, ребята.
- Ладно, ладно, - строговато прерывал такого говоруна Климов. - И то время в историю войдет. И мы сейчас не на митинг собрались, а перед боем разговор ведем. Значит, строгость во всем нужна и ясность. Углы на пикировании советую крутые закладывать. От семидесяти до восьмидесяти градусов, чтобы поменьше у немецких зенитчиков в прицеле находиться. Воздушным стрелкам глазами небо беспрестранно обшаривать, так чтобы на шее потертости от воротника комбинезона оставались. Тогда ни один "мессер" и ни один "фокке-вульф" не подкрадется внезапно.
И улетали "ильюшины". Только слитный, чуть надтреснутый рев моторов, все ослабевая и ослабевая, какое-то время слышался над землей, а потом и самолеты растворялись на голубом фоне весеннего, неспокойного неба и гул этот смолкал. И оставались на земле лишь те, кто готовил этот вылет, кто заправлял боевые машины бензином, кто подвешивал фугасные и зажигательные бомбы, набивал снарядами и патронами ленты пулеметов и пушек. Те, кого в обиходе и вовсе без какого-либо высокомерия, а просто по привычке называли технарями, о ком в авиационной суете не всегда речистый Климов сказал однажды на предполетной подготовке, обращаясь к одним только летчикам да воздушным стрелкам:
- Им же цены нет на войне, этим технарям, и что бы мы делали без них. Кто бы сумел из нас, летунов, подняться в воздух, скажите?
И сдержанным одобрительным хором голосов откликнулся летный состав одним только словом: "Никто".
Весна сорок пятого наступала не по законам метеорологии. Она опрокидывала эти законы вместе с разливами рек и озер, вместе с яркой прозеленью травы на нераспаханных полях и откосах o железнодорожных насыпей и автострад, суровыми ветрами, идущими от балтийских берегов, будто бы гнала прочь на запад торопившиеся в своем последнем предсмертном отступлении надломленные фашистские войска. С какой горькой тоской читали когда-то в сорок первом и сорок втором на полетных картах, спрятанных в планшетки, названия деревень и городов на пути отступления, ведущих к Москве: Безденежное, Праслово, Подсосонье, и с какой радостью, получив новые карты теперь, видели на них автострады, ведущие к Берлину и другим городам третьего рейха, читали, пусть не всегда с правильными ударениями, названия поселков, рек и городов, стоящих на пути к фашистской столице!
Однако движение вперед, на запад, штурмовой дивизии полковника Наконечникова временно прекратилось, и она перестала менять аэродромы своего базирования. Впрочем, это и немудрено. Не только она, но и весь 1-й Белорусский фронт остановился перед восточным берегом Одера - этого последнего водного рубежа на пути к Берлину. За голубоватой ленточкой, которой река была обозначена на картах, открывался прямой путь к фашистской столице. И ой каким он уже был коротким! Франкфурт-на-Одере, несколько мелких городов, и уже расползалось на карте жирное черное пятно Берлина, словно клякса в ученической тетради.
Наконечников позвонил на рассвете Климову, когда тот еще спал и не сразу снял трубку, отгоняя от себя остатки сна:
- Слушаю, товарищ полковник.
- Все боевые задания на сегодняшний день отменяю. Выполнить только один полет. Надо на низкой высоте разведать аэродром под Франкфуртом-на-Одере. Ходят слухи, что там у них базируются реактивные истребители Ме-193 и Ме-262.
- Гм... И вы это открытым текстом, товарищ Первый?
- Не остри, - сердито пресек Наконечников. - Вот-вот совсем начнем воевать открытым текстом, чтобы до их логова поскорее дотопать. Разведку провести с самой низкой высоты, какая только возможна. Послать лучший экипаж и одного ведомого для прикрытия. Только пару, большой группы не надо. Кто поведет?
- Майор Бакрадзе, товарищ Первый, - ответил командир полка.
- Устроит, - прогудел бас Наконечыикова, и трубка замолчала.
А через час заспанный и почему-то очень хмурый Вано, бегло осмотрев штурмовик, подготовленный Максимовичем, мотористом и оружейником, сердито сказал опоздавшему на самолетную стоянку воздушному стрелку:
- Я представляю, Веня, как тебе трудно было вставать раньше времени от теплой и, насколько я понимаю, горячо любимой жены и, вероятно, матери твоего ребенка в недалеком будущем и плестись на стоянку. Между прочим, и мне что-то хорошее снилось. Но командир оборвал наши сны и не дал их досмотреть до конца. Задание срочное, Веня. Пойдем аэродром разведать под Франкфуртом, где, по предположениям, их новые реактивные "мессеры" базируются.
И через считанные минуты два темно-зеленых, под цвет наступающей весны, закамуфлированных "ила" уже шли по маршруту. Вторую машину, как и всегда, пилотировал ведомый Бакрадзе Слава Овчинников.
Видимость была никудышной. Передняя кромка горизонта неохотно расступалась перед "илами" и тотчас смыкалась за их острыми килями. И все же, ни на секунду не ослабляя напряженных глаз, Веня просматривал в пространстве, остающемся за их килем, очертания то и дело погружающегося в туман и вырывающегося из него второго самолета. Иногда машина Овчинникова почти совсем зарывалась в опустившейся над ними невесомой пене, оседающей на металлических плоскостях до того плотно, что исчезала из глаз сидевшего за турелью Якушева. И одного неточного движения, одной оплошности ведомого или ведущего было достаточно, чтобы они обе столкнулись и одним пылающим клубком дыма и огня рухнули на землю. Но когда туман редел, Якушев видел красный кок второй машины и напряженно застывшее лицо ее летчика под фонарем. И от этого становилось веселее, потому что покоем сменялось оцепенение. "Молодец, Слава, - думал он, успокаиваясь. - Какой же, право, молодец, если не нарушает ни интервалов, ни дистанций ни на метр".
Внезапно под самым хвостом второй машины распустился черный шар, оставив в промозглом невесомом воздухе красные иглы, затем, чуть правее, еще один, а третий выше.
- Командир, нас обстреливают зенитки! - крикнул Веня.
- Понимаю, - донесся чуть искаженный эфиром голос ведущего. - Выходим на цель. Будь внимательнее, геноцвале.
За хвостом самолета и под его плоскостями тумап заметно поредел. Вспарывая его, словно большим кинжалом, опустился нос самолета, потом вздыбился так резко, что Якушев почти повис на привязных ремнях. Внизу под хвостом, чуть в стороне, туманное пространство разорвали две трассирующие очереди. Бакрадзе сманеврировал и вывел машину под самую нижнюю кромку облачности. Стало светло, и Веня увидел то, чего не мог видеть его командир: острый жалящий пунктир новых трасс, потянувшихся с земли к их машинам, в сторону от которых увел самолет Бакрадзе, а минутой спустя - покрытую дымкой лесную опушку и капониры. Одни из них были явно пустыми, в других он различил тонкие тела вражеских истребителей, такие странные без обычных трехлопастных винтов впереди. Это и были те самые загадочные реактивные машины, о которых так много былей и небылиц ходило по фронтовым аэродромам. И опять нос "ила" вздыбился и Якушев повис на привязных ремнях.
- Внизу капониры! - выкрикнул Веня. - В двух-трех самолеты.
Молчание заполнило наушники, только легкий треск улавливал слух воздушного стрелка да тяжелое дыхание Бакрадзе. Остервенело продолжали лупить по ним с земли зенитки, и вдруг короткий, чуть сдавленный голос потряс его своей напряженностью:
- Ты ошибся, мальчик. Капониры пусты. Уходим домой.
- А как же задание! - закричал Веня. - Нужен второй заход.
- Заткнись, - оборвал его комэск, и тотчас же совсем рядом с полуоткрытой кабиной стрелка опять блеснула трасса. - Уходим домой, так надо!
И опять со всех сторон затянула два одиноких "ила" кромешная мгла.
Едва самолет зарулил на стоянку и вяло рассек сырой воздух на своих последних оборотах трехлопастный винт, Якушев, отстегнув привязной ремень, вылез из кабины и бросился к своему комэску:
- Почему мы возвратились, не сделав второго захода?
- Потому, что так надо, - вяло ответил Бакрадзе. Он не взорвался, не накричал на подчиненного, как всегда бы это сделал, отстаивая свою правоту. Вано стоял, опустив подбородок на грудь, и долго молчал.
Из подъехавшего к самолетной стоянке "виллиса" пружинисто соскочил Климов, подбежал к ним.
- Товарищ командир, - доложил ему Бакрадзе. - Задание выполнено. На аэродром вышли. В капонирах ни одного вражеского самолета не обнаружили. Второго захода не делали. На моей машине стало выбивать масло.
- Плохо, - отрезал Климов, остро сверкнув зеленоватыми глазами. - Эй, Максимович, проверьте маслосистему! Нельзя ни минуты медлить. Разведданные ждет весь фронт. Через час повторный вылет.- И, хлопнув дверцей, Климов умчался.
Маслосистема на самолете оказалась в порядке. В те минуты, когда оба экипажа дожидались, пока техники и механики подготовят к новому вылету "илы", Якушев топтался на стоянке, изредка перекидываясь с Максимовичем ничего не значащими короткими репликами. Видавший виды служака, не "хуже Климова и более высокого начальства понимавший обострившуюся обстановку, дружелюбно вздыхал, подбадривая Якушева:
- Ничего, братка ты мой. Оно, конечно, ситуация не из приятных, раз задание осталось невыполненным, но сейчас вы опять слетаете, по ихним самолетным стоянкам как лупанете, и все восстановится. И не такое бывает на фронте, братка ты мой. А со своим комэском смирись. И не такие раздоры происходят на фронте. Оно ведь четвертый год уже воюем. Шутка ли сказать, братка ты мой. И раз комэск решил оборвать разведку, значит, так и надо было, ему из передней кабины лучше видно, чем тебе из задней, и обстановку легче оценить.
Веня не отвечал, лишь благодарно поглядывал на своего утешителя. Тем временем Вано Бакрадзе, заложив руки за спину, медленно прохаживался вдоль стоянки. Планшетка с картой безвольно болталась на ремешке, ударяя его по коленке. "Щенок, мальчишка негодный, - повторял он мысленно. - Ты... ты осмелился!" - но вдруг, резко оборвав себя на полуслове, остановился как вкопанный. Подошвы его сапог вдавливались в кустики уже одетой первой прозеленью робкой травки. Она и на чужой земле была такой же желанной, как и на своей, потому что заставляла обостренно переживать наступающую весну - последнюю весну войны.
"Постой, - вдруг перебил Бакрадзе самого себя, - ты назвал его щенком, мальчишкой негодным. А за что? За что, я спрашиваю? - И, задав самому себе этот вопрос, он горестно покачал головой. Шнурок, свисающий с шлемофона, при новом движении несильно хлестнул его по шее.- Щенок, мальчишка, - повторил про себя Бакрадзе и тут же осекся. - Да какой же он щенок и мальчишка, если все правильно понял? Не зря он пишет в толстую свою тетрадку эти свои рассказики, из которых еще неизвестно, что выйдет. Ведь он же твою душу правильно вскрыл, и что дрогнул ты, впервые дрогнул за все дни, месяцы и годы этой изнурительной войны. Разве не так? - спросил себя Вано, но не сразу нашел в душе ответ. Где-то в самых глубинах этой души ответ уже складывался, рос и освещал ее уголки черным дымным факелом, те самые утолки, в которые он и сам бы не хотел заглядывать, где прятались его ошибки и слабости. - Ты трус, Бакрадзе, - говорил этот ответ. - Ты стал трусом, и мера твоей храбрости на войне уже исчерпана. А отчего стал таким, хочешь, я скажу и об этом?"
Бакрадзе вздрогнул оттого, что почти зрительно представил себе этот ответ в облике красного червяка, такого, с каким ходил мальчишкой на рыбалку. Только червяк этот не извивался в ползке, как те, а грозно поднялся вдруг на хвост и стал надуваться, словно кобра, готовая ужалить. "Ну, говори", - безвольно согласился Бакрадзе. "Ты мечтаешь остаться в живых, - беспощадно промолвил червяк. - Тебе не хочется погибать в эту весну сорок пятого года, когда победа уже рядом и вот-вот можно дотянуться до нее рукой? Тебе не хочется сгореть в кабине над целью или рухнуть на землю в запылавшем самолете, врезаться в нее вместе с "илом". "Нет, нет", - опустошенно хотел воскликнуть Бакрадзе, но червяк вдруг исчез, а Вано глубоко вздохнул, возвратившись к действительности. Однако легче от этого не стало.
"Да, мне хочется жить", - с предельной откровенностью подумал Бакрадзе. Неожиданно он вспомнил небольшое село, затерянное в горах Сванетии, небогатый, казалось придавленный крышей, отчий дом, в котором жила большая семья колхозного кузнеца Сандро Бакрадзе, тесное подворье, где вечно суетились петухи и куры, блеяли два-три барашка, ночное небо, усеянное звездами, каких нет во всем мире, и только над их селением оно такое, доброе морщинистое лицо матери, лица братьев и сестер, провожающих его в летпое училище, и острая боль обожгла душу. Как захотелось все это увидеть снова!
Когда-то давно седобородый в свои семьдесят пять лет дедушка Арчил, который на все селение прославился тем, что однажды голыми руками задушил рысь, сказал ему:
- Ты мог бы родиться горбатым, но родился крепким и сильным, маленький Вано, и это прекрасно. Ты мог бы переболеть оспой и жить потом с рябым от нее лицом, но ты растешь красивым, мальчик мой, и пусть тебе улыбаются горы из-под своих седых папах. Ты мог бы быть хвастливым и жадным, но в семье кузнеца Сандро, отца своего, ты вырос скромным и великодушным. Ты мог бы рваться в большой красивый город Тбилиси и мечтать о его шумных улицах, площадях и театрах, но ты любишь свой далекий, свободный от этой пышности аул и дом своего скромного отца и деда. Все это можно, Вано. И лишь одного тебе, горцу, никогда нельзя: быть трусом.
"Но разве я был когда-нибудь трусом? - неожиданно по самому сердцу полоснула его острая мысль. - Разве я когда-нибудь боялся идти сквозь зенитный огонь па цель или дрожал оттого, что увидел в воздухе пару "худых", как тогда называли в нашем полку "мессершмитты"?
Так почему же, сделав больше ста вылетов, я должен теперь погибнуть, когда пришла последняя весна и рукой подать осталось до этого мрачного, притаившегося за линией фронта Берлина, а значит, и до окончания войны? Погибнуть, когда столько штурмовок за плечами, а вся пропотевшая гимнастерка в орденах и медалях, и зачем они мне мертвому! Нет, не надо погибать, - вдруг оборвал он себя, - если жизнь такая заманчивая по весне и рядом, совсем рядом победа".
- Товарищ командир, - раздался голос за его спиной. - Машина к полету готова.
Бакрадзе круто обернулся. Все размышления моментально угасли, и он увидел одну только явь. Она предстала в образе улыбающегося Максимовича.
- Ты чего такой развеселый и сияешь, как майская роза? - заинтересовался Бакрадзе.
Техник рукавом видавшего виды промасленного комбинезона провел по лицу.
- Да как же не улыбаться? - осклабился он. - В столовке сейчас немецкую картошку вареную подавали. Ну, что это за картошка? Души в ней нет сплошной эрзац, а не произведение природы. А еще нас с такой картошкой блицкригом победить хотели. Вот у нас бульба так бульба, недаром про нее веселая песня по всей Белоруссии ходит. Приедете после войны ко мне в гости в Осиповичи, товарищ командир, от души угощу. Сами увидите, какая она. Какая пышная, вся рассыпчатая, нежная, как будто в каждой картофелине душа живет и поет.
- Ладно, ладно, - вяло улыбнулся Бакрадзе. - После победы обязательно приеду в твои Осиповичи эту самую бульбу есть. И песню буду вашу потягивать, в которой, помоему, так поется: "Бульбу сеют, бульбу парят". Так, кажется?
- Именно так, товарищ командир, - повеселел Максимович. - Только разрешите добавить, что первая песня и пляска у нас в Белоруссии - это "лявониха".
Ах, Лявониху Лявон полюбил, Черевички ей на праздник купил.
...На стоянке маячила фигура воздушного стрелка. Взяв себя в руки, Вано подавил недавнюю обиду на Якушева, приблизившись, потрепал его по плечу:
- Ну что, Веня? На цель идем?
- Идем, товарищ командир.
- Вопросы ко мне какие возникли?
- Нет.
- Тогда в кабины и по газам.
И опять два самолета, два могучих "ила", сделав над летным полем круг, ушли в небо. Якушев почувствовал себя на взлете нехорошо, комок тошноты подкатил к горлу, однако он подавил это неприятное ощущение и подумал: "Почему я не летчик, сижу к нему спиной, от этого нагрузка в полете двойная, я ничего порой не знаю о том, что происходит в передней воздушной сфере, в пространстве, в которое вторгается самолет, что ожидает нас и чего должны ожидать мы.
Как часто в летной среде называли наш штурмовик "горбатым" и как справедливо это! - продолжал рассуждать в своей задней кабине Веня.- Кто, как не "илы", вынесли на своих спинах тяжкое бремя войны. И зенитки били по ним крупнокалиберные, и "мессеры" заходили с хвоста для атаки, чтобы ужалить огненной трассой сначала стрелка, а затем и летчика поразить, оставшегося беззащитным сзади. Я обязательно напишу об этом после войны книгу, так и назову ее: "Штурмовики".
Машину взболтнуло, и напряженный голос Бакрадзе кратко оповестил:
- Подходим к линии фронта, не зевай, Веня.
И оттого что Вано прибавил к лаконичной команде его имя, у Якушева сразу потеплело на душе: "Может, простил мою грубоватую выходку, может, подумал и оправдал горячность мою".
Рука Вениамина легла на турель, ладонью он прикоснулся к густо смазанному крупнокалиберному пулемету, единственному его оружию, ради которого и кабина-то задняя с жестким сиденьем появилась. Веня перевел ствол влево и вправо, вверх и вниз: все хорошо. Он склонил голову к левому борту, ощущая привычную перегрузку, отжавшую его к холодной бронеспинке. Высокий прочный киль опустился вниз, а задняя сфера стала хорошо обозреваемой. Ни вверху, ни справа, ни слева не было вражеских истребителей. Вторая машина шла на положенном удалении, и бешено вращающийся трехлопастный винт окружал ее нос черным нимбом.
Солнце, блеснувшее из-за облаков острыми лучами, отскочило от фонаря пилотской кабины. Гул мотора как-то сник, как будто бы "ил" решил сделать короткую передышку, и по этим изменениям в ритмике его звучания Веня догадался, что их пара уже находится над целью. Секунду спустя левое крыло их "шестерки" резко поднялось в крутом вираже, рассекая уже не сумеречный, а заголубевший от солнца воздух.
Из своей задней кабины Веня увидел знакомые очертания все той же ромбовидной рощи, над которой они уже побывали утром. В редком прорубленном сосняке, похожие на большие серые личинки, прятались немецкие самолеты, и были они все без винтов. "Реактивные "мессершмитты",- тревожно подумал Якушев и закричал по СПУ:
- Командир, ты видишь!.. Раз, два, три... Целых шесть штук. Пикируй, командир!.. Ситуация лучше не придумаешь.
Бакрадзе не откликнулся. В наушниках потрескивал эфир, и только. А их "ильюшин" уплывал от рощицы в сторону, и желтые стволы мохнатых сосен, по-весеннему ярко-зеленых, исчезли под крылом. В крутом довороте Бакрадзе бросил машину влево, и как раз вовремя, потому что словно в карнавальную ночь распустились сзади, чуть ниже хвоста, два желтых пучка огня и дымки повисли над ними в заголубевшем после утреннего тумана воздухе.
"Бог ты мой, - зябко подумал Веня. - До чего же кучно бьют фашистские зенитки! Не хватает прямого попадания, после которого ни Тоси, ни родного Новочеркасска, ни Лксайской улицы, ни стариков своих не увидишь". И странное дело, эта насмешка над самим собой как-то даже согрела. Вдруг он увидел на скрещении двух бетонированных полос чужого аэродрома два руливших папиросного цвета немецких истребителя.
- Командир! - закричал он истошно. - Внизу цель. Два реактивных ползут на полосу. Доворот влево - и атакуй, пока они не поднялись!
Пилотская кабина молчала.
- Командир, пикируй, упустишь! - прокричал он снова, ничего не понимая.
Гудел мотор, небо плыло над верхом его не полностью закрытой кабины, снизу к их самолету протянулась трасса и разрезала воздух близко от хвоста.
- Командир, чего медлишь, - снова окликнул Якушев летчика.
И опять промолчала передняя кабина. Веня не знал, что, весь обессиленный, поникший и вялый, Бакрадзе с ужасом глядел на то, как внизу по боковым дорожкам тянутся к широкой взлетной полосе два чужих истребителя, о скорости и силе огня которых по всему фронту ходили устрашающие легенды. Кто-то другой, расслабленный и опустошенный, подменивший в эту минуту Героя Советского Союза Вано Бакрадзе, невиданным страхом наполнял его сознание. "Ты погибнешь, - говорил он, - ты никогда больше не увидишь ни своей Сванетии, ни облаков над горами, ни родных. Как не хочется погибать, - обожгла его острая мысль. - Решайся, Вано, иначе будет поздно".
И он решился. Сильным движением рулей, почти с девяностоградусным углом, он заставил "шестерку" снизиться с правым креном и лечь на обратный курс. Бешено задрожали стрелки на приборах. Он сделал это вовремя, потому что совсем близко за хвостом разорвался новый снаряд, так что машину даже подбросило, и, если бы они не изменили курс, она была бы неминуемо поражена. Наушники наполнил истошный голос Вениамина:
- Командир, почему уходишь от цели?.. Почему ты не сбросил бомбы?
Бакрадзе долго молчал. Обливаясь потом, он уже положил штурмовик на обратный курс и, снижаясь над лесом, чтобы перейти на бреющий полет, думал о том, как ответить воздушному стрелку. И наконец решился.
- Идем домой, - усталым нетвердым голосом пробормотал он, - мотор обрезал.
Вениамин прислушался. Голос у Вано был какой-то предельно глуховатый, а может, только искаженный помехами, которыми часто сопровождается пребывание самолета пад целью.
- Командир, почему ты не спикировал? - опустошенно переспросил Якушев, вслушиваясь в гудение мотора и не находя в нем никаких перемен.
И вдруг наушники заполнил отчаянный голос Бакрадзе:
- Веня, они взлетают, сейчас они будут атаковать.
- Ну и что же, - возразил по СПУ стрелок. - За на-ми идет четверка "яков", она отсечет. Надо штурмовать опушку, "яки" прикроют нашу атаку.
- Я знаю, что делать, - рявкнул из первой кабины Вапо. - Я знаю... мотор...
И действительно, ровный бесперебойный гул на мгновение оборвался и в самолете возникла томительная тишина, только слышался свист рассекаемого ребрами плоскостей воздуха за фюзеляжем. Веня зябко повел плечами, подумав, что самолет подбит, по рев мотора возобновился, и штурмовик их продолжал полет.
- Командир, почему не атаковал? - запросил по СПУ Якушев.
- Я тэбэ сказал, - уныло ответил Бакрадзе, - мотор обрезал.
"Мотор работает отлично, отлично, как и всегда, - подумал Веня. - Значит, он... он струсил?"
Раздался щелчок. Выпущенные шасси стали на замки. Вскоре плиты бетонированной полосы застучали под колесами "ила", начавшего по ней пробег.
О, как любил Веня этот звук! Любил, как любой летчик и любой воздушный стрелок приземляющегося штурмовика. Любил, потому что этот звук, как напев жизни, победившей все смертельные опасности полета, врывался в наушники каждого члена экипажа, словно говорил ему восторженно: ты живой, ты вернулся, здравствуй!
Но теперь этот звук не приносил облегчения. Равнодушно внимал Якушев тому, как все тише и тише гудели плиты взлетно-посадочной полосы под тугими покрышками "ила", теперь уже на немецкой земле, с которой климовский полк летал с насиженных фашистских аэродромов. Сжорость пробега быстро уменьшалась и почти совсем уже иссякла в те секунды, когда Ил-2, срулив с бетонки, торопливо спешил на место стоянки.
Но сейчас на все это Якушев не обратил никакого внимания. Переполненный яростью, он выскочил из задней кабины, но его опередил Максимович. Тот очутился на крыле как раз в ту секунду, когда летчик, обеспокоенно озираясь, открыл фонарь.
- Командир, что такое, братка ты мой, вы не ранены?
Побледневший Бакрадзе продолжал сидеть на своем пилотском месте, сжав сцепленными ладонями ручку управления и положив на них плохо выбритый подбородок.
- Нет, Янка, ранен не надо, - утомленным голосом пробормотал Вано. - Я не ранен... Кажется, я убит.
И в это мгновение с другой стороны крыла подскочил Якушев, всей своей выражающей гнев и решительность фигурой навис над ним. Тяжело дыша, с решимостью человека, которого оставили последние сомнения, выпалил:
- Ты... ты... ты трус!
Ничего не ответив, Бакрадзе продолжал сидеть с низко опущенными плечами. Сухие бескровные его губы дрогнули в какой-то страдальческой гримасе. Неизвестно, что сказал бы дальше распалившийся воздушный стрелок, если бы у него за спиной не раздался повелительный голос подходившего к их самолету полковника Климова.
- А ну-ка в сторону, старший сержант! Я сейчас говорить с ним буду. Майор Бакрадзе, ко мне!
Будто ослепленный, медленно поднялся, отстегнув привязной ремень, на пилотском сиденье летчик, выбрался из кабины, вяло соскочил па сыроватую весеннюю землю, с трудом поднял неимоверно отяжелевшую голову.
- Докладывайте о выполнении боевого задания, - резко произнес в наступившей тишине Климов. По тому, как раздувались крылья его тонкого носа, нетрудно было понять, с каким усилием командир полка сдерживает себя. Почти минуту молчал Бакрадзе и наконец с трудом выдавил короткую тяжелую фразу:
- Товарищ командир, боевое задание осталось невыполненным.
- Так, - холодно откликнулся Климов. - Причина?
Бакрадзе безвольно опустил вдоль туловища руки, и горькие слова сорвались с его сухих губ.
- Над целью, - начал он и запнулся, беря фразу с разбега, - над целью, как мне показалось, обрезал мотор.
- Максимович! - не глядя на летчика, крикнул Климов. - Немедленно садитесь в кабину и опробуйте движок.
Через считанные минуты взревел мотор самолета, огласив ровным устойчивым басом окрестности аэродрома. Мотор работал на одной бесперебойной ноте. Лишь бас его то усиливался, то стихал. По знаку командира полка Максимович выключил двигатель и покинул кабину "илыошина".
- Мотор в порядке, товарищ полковник, - мрачно доложил Максимович и, повинуясь резкому нетерпеливому жесту, отошел в сторону.
- Так... - проговорил Климов и, не докончив фразы, запнулся. С минуту он молча смотрел на Бакрадзе, измеряя его разгневанным взглядом. - Так... значит, первый случай в истории нашего полка, когда летчик ушел от заданной цели, не сделав попытки ее поразить. Значит, вы, майор Бакрадзе, открыли новую страницу в его истории.
- И она именуется трусостью! - запальчиво выкрикнул Якушев.
Климов метнул в его сторону свирепый взгляд:
- А ты замолчи, говорун! Я спрашиваю тебя, что ли! Идем на КП, майор, там беседовать будем. А тебя, Якушев, я потом вызову.
И они зашагали по зазеленевшей апрельской земле вдоль самолетных стоянок. Низко опустив голову, Вано понуро молчал, а Климов до боли кусал тонкие, бескровные губы. Он о чем-то упорно думал и неожиданно остановился как вкопанный.
- Нет, - сказал он решительно. - Не поведу я тебя на КП, Вано. Слишком много чужих глаз будут там тебя разглядывать. А я не хочу, не хочу, понимаешь! Все-таки мы сюда с тобой от самого Сталинграда дошли. И здесь, на пороге Берлина... - Он горько развел руками. - Как же так, Вано Бакрадзе? Как все это получилось? Лучший комэск в полку, Герой Советского Союза, больше ста вылетов за плечами... Ты же под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге какие чудеса вытворял, как тигр дрался!.. В сорок первом под Москвой отличился. Не могу я тебя карать, рука не поднимается. Что же случилось, Вано? Жить захотелось, что ли? Жить во что бы то ни стало?
Низко опущенный, с утра невыбритый подбородок Вано уткнулся в воротник комбинезона, видимо, оттого, что грузин не хотел, чтобы кто-нибудь видел в эту минуту его глаза, их утраченный блеск, побелевшие, скорбно стиснутые губы.
- Жить, - не поднимая головы, выдавил с трудом Бакрадзе. - Вы поймите меня правильно, командир, я ничето не скрываю.
- Можешь на "ты", - перебил его Климов, - мы одни сейчас, только аэродромный ветер нас слышит, он далеко не разнесет.
И вдруг Бакрадзе, горько заплакал, но тотчас же, устыдившись, рукавом комбинезона вытер лицо. Но и в эту самую тяжелую в жизни для него минуту он сумел быстро взять себя в руки.
- Понимаешь, Саша, сколько стволов вели по нашим "горбатым" огонь. От трасс одних "эрликонов" можно было ослепнуть, да еще два этих проклятых реактивных истребителя побежали по полосе взлетать, нас перехватывать.
- И ты решил уйти от опасной цели?
- Спастись, командир, так будет точнее. Он ко мне долго подкрадывался, этот страх, и в конце концов победил мой рассудок.
Климов ковырнул носком хромового сапога зеленую травку, проросшую между двумя бетонными плитами рулежной дорожки. Над их головами непрерывно гудело небо. Пролетали на запад самолеты - лишь советские краснозвездные "яки", "пешки", "лавочкины", "илы" из других полков.
- Угадываю, - задумчиво проговорил Климов. - Идут последние дни войны. Победа уже обозначилась, и не пунктирчиком, а жирной итоговой чертой, прочерченной для врагов тушью черного цвета. Мы тоже подведем итоги этих четырех лет, Вано, но чертой, сделанной красной тушью, чертой нашей крови, нашего знамени и нашей победы. За Одером, который мы вот-вот будем форсировать, она уже обозначилась. Эта наша победа! На земле бушует весна, и вдруг погибать тебе, прославленному на весь фронт летчику. Никакой закономерности, полный абсурд. А что же теперь с тобой делать, что делать, я спрашиваю?
- Меня под трибунал, командир? - мрачно спросил Бакрадзе.
Зеленые глаза Климова холодно блеснули исподлобья.
- Да нет, зачем же, - горько откликнулся он. - Я предложил комдиву другой вариант, и он согласился. Тебе предоставляется возможность реабилитироваться. Одним словом, иди отдыхай, Вано, а завтра снова в бой. Поведешь завтра четверку на тот же самый проклятый аэродром, где двести шестьдесят вторые "мессершмитты" базируются, и только попробуй промазать... Тебя презирать буду.
Бакрадзе облегченно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы лицо его осветилось в эту пору улыбкой. Улыбаться было нечему, большой радости он не переживал. Он лишь высоко поднял плечи, оттого что тягостный, непосильный груз свалился с них. И просветлевшие глаза его успокоенно взглянули на командира.
- А теперь уходи от меня, Вано, - договорил Климов,- и передай своему воздушному стрелку, чтобы немедленно пришел сюда, на вот это самое место.
- Ну что скажешь, правдолюбец? - хмуро спросил полковник Климов у подошедшего Вениамина. - А еще хочешь писателем стать, инженером человеческих душ, рассказики публикуешь всякие. Как же ты души своего командира понять не мог и простую истину о том, что любой боевой полет - это не прогулка в наш новочеркасский парк, где можно какие хочешь слова говорить повстречавшимся парням твоего года рождения? Иди от меня прочь и, если есть у тебя доброта и сердечность, поговори со своим командиром.
- Может, я еще прощения у него должен попросить?- буркнул Якушев.
- Нет,- сдержанно ответил Климов. - Прощения просить тебя я не заставляю. Ты по душам с ним поговори, а какие слова для этого найдешь, дело твое, лишь бы эти слова человечьими были. А теперь не маячь у меня перед глазами. У меня во! - И командир полка ребром ладони провел по большому кадыку на худой шее, показывая, как много у него забот.
Возвратившись на самолетную стоянку, Веня долго ходил рядом с Бакрадзе, не решаясь сразу к нему подступиться. Потемневшее от горя лицо комэска казалось ему замкнутым и мрачным. Это было лицо человека, который ни в мысли и ни в душу свою решил никого не впускать. Стоило лишь Якушеву подойти, как Бакрадзе немедленно отворачивался, делая вид, что не замечает подчиненного. И тогда Веня решил действовать напролом. Он приблизился к летчику, о чем-то говорившему с Максимовичем, и неуверенно вымолвил:
- Командир, разрешите обратиться?
- Ну чего тебе? - недружелюбно осведомился комэск.- Видишь, дел сколько.
Выручил все понимавший Максимович:
- Братка ты мой, я тут сейчас должен командиру схему электросистемы принести, пока схожу, ты тут и поговори, если, разумеется, командир разрешит.
И, как только удалился Максимович, Бакрадзе сам подошел к нему.
- Ну, я тебя слушаю, - сказал он не то чтоб недружелюбно, но как-то небрежно и грустно. В темных глазах грузина была тоже неразвеянная тоска, но враждебности ни в них, ни в голосе, которым эти слова были сказаны, Якушев не ощутил.
- Я по поводу сегодняшнего полета, - неуверенно начал он.
- Ну, так подойди поближе, тогда и говори, правдолюбец, - вздохнул Бакрадзе.
Якушев отмерил считанные шаги, разделяющие его о комэском, и робко произнес, опуская все уставные слова, необходимые в армии при обращении младшего к старшему по званию. Сказал просто, как всегда говорил в тех случаях, когда никакие неприятности не отделяли их друг от друга.
- Вано... прости меня.
Но Бакрадзе молчал. Тонкие ноздри его горбатого носа вздрогнули, сдвинулись брови, а затем, будто по команде, разлетелись в разные стороны. Его подбородок чуть-чуть покосился, и что-то вроде горького вздоха слетело с холодных, решительно сомкнутых губ.
- Что скажешь, джигит? Горы слушают, и я слушаю, как принято говорить у нас в Сванетии, что за хребтом Кавказа.
Веня обрадовался - это была любимая фраза командира эскадрильи, когда он теплел душой. Сколько раз все слышали ее на аэродромах войны, по которым с боями двигался полк!
- Вано... друг... прости! - чуть ли не шепотом повторил Веня.
- Говоришь "друг", говоришь "прости", - внезапно пробормотал Бакрадзе и опять потемнел лицом: - Да. Ты действительно приобрел право говорить мне друг. Еще в проклятом сорок первом году получил его, после того как мы горели на одном СБ от очереди поганого "мессера", лежали в одном госпитале, в одной палате, вместе с политруком Сошниковым, как мы закрывали глаза и делали вид беспробудно спящих людей, если прибегала в палату твоя верная Леночка, а теперь твоя вечная скорбь. Все помнишь?
- Да разве можно забыть? - печально ответил Якушев, недоумевая, зачем командиру эскадрильи понадобилось такое вступление.
- Значит, друг? - переспросил Вано еще раз. - Так зачем же ты тогда просишь у меня прощения? Ты разве кинжалом меня ударил в спину, подкрался сзади и ударил, понимаешь? Ты мне все это в глаза сказал и действительно был прав, мой разгорячившийся обвинитель. А кто любит правду в глаза, скажи? Дрогнул я в этом полете, Веня. В сорок первом не дрожал, потом три года не дрожал, а в сорок пятом дрогнул. На цель не пошел, про то, что мотор обрезал, действительно выдумал. А знаешь почему, Веня? Усталость меня источила, пожить после войны захотелось, и кто-то второй, который во мне сидит, вдруг заговорил так: "Хватит тебе играть со смертью, Бакрадзе. У тебя за плечами за сто боевых вылетов на груди Звезда Героя. В Сванетии дедушка старый, отец и мама ожидают тебя, блудного сына. И может, уже невесту присмотрели, понимаешь?"
Вот и сорвался я, Венька. Шутка ли сказать, по моей вине такое боевое задание осталось невыполненным. Вот что произошло на самом деле, мой мальчик. А ты у меня еще прощения просишь. - Бакрадзе хлопнул Якушева по плечу, но глаза его оставались по-прежнему печальными.
Веня тяжко вздохнул и недоверчиво посмотрел на командира эскадрильи:
- Нет, Вано. Я не прав. Сердцем я тебя должен был понять и простить.
- И солгать? Не надо было так делать, мальчик. - Вано попытался было засмеяться, но смеха не получилось, лишь горькие складки залегли в углах точеного рта под короткой стрелкой усов. - Как там в вашей хорошей русской пословице говорится: джигиту воля, спасенному рай. Так, кажется.
- Ты вечно путаешь русские пословицы, Вано, - невесело поправил его Веня.- Надо: "Вольному воля, спасенному рай".
- Тоже хорошо, - согласился грузин.
Никогда еще так не веяло победой, как в марте сорок пятого года - четвертого года кровавой изнурительной войны. И хотя нередко хмурилось небо, посылая на землю дожди, и туманы наползали на аэродром, порою закрывая капониры и взлетную полосу с впадающими в нее рулежными дорожками, настроение у авиаторов хорошее. Еще звучали по радиостанциям Берлина полные злобы и безысходной истерики речи Геббельса и заверения, что в самые ближайшие дни по приказу фюрера начнет действовать секретное оружие, которое остановит наступление русских, но уже весело было на душе у всех солдат, офицеров и генералов Первого Белорусского фронта, наступающих на Берлин.
На ежедневных утренних построениях климовского полка летчики наносили на свои рабочие планшеты новые цели, и они указывались начальником штаба полка все западнее и западнее Одера. Переминаясь с ноги на ногу, в довольно вольных по сравнению с обязательными уставными позах стояли асы полка, прошедшие путь от Сталинграда до Берлина, и в этой вольности так и светилась радость. У одного Бакрадзе мрачно было на душе.
"Жизнь! - горько рассуждал Вано про себя. - Что можно о ней сказать? Она дается лишь раз, и никто ее тебе не вернет, если отнимут. Но разве достойно джигита из гордой Сванетии так бежать из боя, как это сделал ты во время штурмовки вражеского аэродрома с этими проклятыми загадочными реактивными фашистскими истребителями, у которых и винтов-то нет на носах?!"
На рассвете еще крапал дождь и туман закрывал стоянки, когда длинный телефонный звонок разбудил Климова.
- Дрыхнешь? - насмешливо осведомился Наконечников. Решив, что комдив недоволен, Климов стал оправдываться:
- Я только два часа назад глаза закрыл, столько дел!
- Да я тебе не в укор! - рассмеялся Наконечников. И, вопреки всем правилам, открытым текстом комдив передал: - Ты знаешь, что ас нашего соединения майор Иван Кожедуб- тот самый дважды Герой Советского Союза, который еще второй Звезды не получал, потому что попросил до конца войны не отзывать его с фронта, - в районе Франкфурта-на-Одере сбил фашистский реактивный истребитель "Мессершмитт-262"?
- Нет! - оторопело ответил Климов. - Да и откуда же? Ведь это же сенсация в хорошем смысле. Вот настоящий ас! Какой же это у него по счету?
- Точно не знаю, - ответил комдив,-но ясное дело, что уже к шестому десятку подходит. Так вот, завтра Первый собирает на "Глиссаде" всех асов нашего большого хозяйства по этому поводу. Встретимся с Иваном Никитовичем и послушаем его рассказ об этом воздушном бое.
"Глиссада" - был позывной штаба воздушной армии, находившегося в небольшом немецком городке Мизеритц. Комдив кашлянул и закончил:
- Так вот что, дорогой Александр Климов. От твоего хозяйства на этой встрече должны присутствовать... ты, разумеется, и три лучших "мастера штурмовых ударов", как о вас пишется в нашей армейской газете. Выберешь по своему усмотрению, а начало совещания в семнадцать ноль-ноль. Приедешь вместе с ними.
Климов думал, взвешивал, кого взять, и на утрепнем построении, рассказав всему личному составу о приказе комдива, веско объявил:
- Со мной поедут комэск первой эскадрильи майор Бондарепко, штурман полка Ведерников и... - Зеленые глаза его вдруг выхватили стоявшего на правом фланге Вано Бакрадзе, и командир полка трескучим, будто очередь из пулемета, голосом неожиданно для всех закончил: - И ты, Бакрад зе.
Всю дорогу, пока в трофейном автобусе они ехали по мокрому от утреннего дождя, рассекающему ельник шоссе, в штаб воздушной армии, Бакрадзе сидел с поникшей головой, в горькой растерянности.
"Почему Климов назвал меня после того, как я ушел от цели, не выполнив задания? Разве я теперь имею право быть среди лучших асов, смотреть им в глаза?"
Сдержанно гудели голоса приглашенных на совещание. Многие из этих летчиков, хорошо знавшие друг друга по кодовым позывным, употреблявшимся в воздушных, порою смертельных, схватках, знакомились впервые. Иной, малодой и красивый, но уже наживший седые виски, в двадцать- двадцать два года ас, весело восклицал:
- Слушай, а я тебя совсем не таким представлял! Думал, дракон какой-нибудь, а не человек! Ты так кричишь по рации над полем боя! Как ты меня над Бобруйском матерком обложил! Никогда бы не подумал, что так виртуозно можно ругаться.
- Так ведь еще бы!-восклицал ему в ответ ровесник.- Зенитки со всех сторон лупят как оглашенные, а твоя "девятка" еле-еле телепается, когда до цели меньше минуты осталось... Но зато потом ты ударил! Вся станция от твоих бомб горела, аж ее дымом заволокло. Ты же не забыл, как бензоцистерны рвались у фашистов? Хороший фейерверк им устроил.
И, обнявшись, входили боевые побратимы в большой, просторный, с высоким сводом ангар, где должна была начинаться встреча.
На длинной школьной доске были развешены черной тушью вычерченные схемы, на которых изображались все этапы скоротечного воздушного боя, и лучший ас, чье имя уже гремело на всех наших фронтах, гвардии майор Иван Кожедуб, негромким баском рассказывал о своей встрече с еще не виданным никем из наших пилотов фашистским реактивным истребителем.
- Мы тогда возвращались с воздушной охоты, - говорил Кожедуб. - К Франкфурту-на-Одере уже приближались, когда я его увидел. Мой ведомый дал трассу первым, но погорячился, и она прошла в стороне. Этот "Мессершмитт-262" не был похож на другие фашистские истребители. А главное, что меня больше всего поразило,- винта на нем не было. Шутка сказать - самолет и без винта. Вот тогда я и понял, что это и есть то самое "секретное оружие", о котором фашисты орали. А все дальнейшее в мгновения произошло. Испугавшись трассы ведомого, немец шарахнулся в мою сторону. Дистанция сократилась до пятидесяти метров, когда я нажал гашетку. Ну, а остальное договорила длинная пушечная очередь. На пылающие куски развалился фашистский истребитель, одним словом.
Летчики, слушавшие его, дружно засмеялись, а потом в зале забушевали аплодисменты...
На торжественном ужине генерал налил сидевшему рядом с ним асу полный стакан водки, но тот усмешливо накрыл его рукой и пробасил в наступившей, уважительной тишине:
- Не... полный не выпью.
- Да отчего же, Иван Никитович? - удивленно спросил седеющий, но еще моложавый генерал, отыскивая глазами место среди саксонских соусников и тарелок, куда бы можно было поставить бутылку. - Такой богатырь, а пасуете.
- Нет! - решительно повторил первый ас воздушной армии, приглаживая светлые вьющиеся волосы. - Не пойдет, товарищ генерал. Завтра летать, а значит, и в воздухе драться, потому что, вы это не хуже меня знаете, сейчас ни один день без воздушного боя не обходится. А я уж лучше сам фрица собью, чем он меня.
- Учитесь, товарищи воздушные бойцы, гордость нашей армии. Учитесь у нашего первого в соединении аса. Не только мужеству и мастерству, но и поведению учитесь. Но вы все-таки поддержите наше застолье, товарищ майор, дорогой Иван Никитович, в меру своего желания и своих возможностей.
- Хорошо, товарищ генерал! - рассмеялся майор. - Сто граммов я действительно одолею, тем более что это норма, установленная нашим Наркомом обороны, а для меня - что слону дробинка.
Он под аплодисменты друзей единым духом выпил половину стакана, крякнул и, не закусывая, провел по губам тыльной стороной ладони.
Уже глубокой ночью разъезжались офицеры авиационных полков. Густая как деготь темень пропитала фронтовую ночь. Раздавались голоса командиров, скликавших летчиков, с которыми они приезжали на эту встречу. Басы, баритоны и теноры звучали в предутренней темени.
- Летчики из Шпротау - сюда!
- Разведчики из тридцать пятого - в мою машину!
- Бомберы, ко мне! - кричал рослый полковник с нитями седины на висках.
"Виллисы", "шевроле" и "доджи", урча моторами, отъезжали от здания столовой, где не так давно в последний раз допивали перед капитуляцией горький свой шнапс фашистские асы. Кто-то подошел к Ивану Кожедубу, не сразу узнав его в редеющей мгле.
- Иван Никитович, а ты чего стоишь? Машины нет? Садись в наш "опель-адмирал", подброшу тебя по пути.
- Нет, - покачал головою ас, - не гоже так. Не поеду.
- Да почему же? Ведь тридцать километров до твоей точки всего.
- Нет, - улыбнулся майор, - не поеду.
- Да ведь развидняется, дорогу не спутаем.
- Вот потому именно и не поеду, что развидняется. Много фрицев из лесу выходит в это время.
- Ну и что же! Ведь они же с белыми тряпками вместо флагов сдаваться из леса выходят. Капитулируют.
- Нет! - отрезал дважды Герой. - Пусть хоть разодранными подштанниками машут в знак капитуляции. Все равно не поеду. Вдруг возьмет какой да и выпалит из своего поганого "шмайссера". И прощай тогда летчик Иван Кожедуб. А я еще не все счеты с геринговскими пилотами свел. Ведь я зарок себе дал шестидесятый их самолет сбить, и не где-нибудь, а над Берлином поганым. Пусть хоть на Тиргартен, хоть на рейхстаг, хоть на имперскую канцелярию падает. Езжайте домой без меня, дорогие.
- Ну как знаешь! - засмеялся полковник. - В твоих словах тоже логика. А у нас на пять ноль-ноль вылет назначен. Не могу твоему примеру последовать, сам должен первую девятку "пешек" на цель вести.
И машина, урча мотором, скрылась в полуночной мгле. Глаза Кожедуба вдруг остановились на близко от него стоявшем Бакрадзе.
- Эй, майор, подойди-ка, пожалуйста, ко мне,- дружелюбно позвал ас.
- Слушаю вас, - тихим голосом откликнулся Вано.
- А ведь я тебя знаю, черноглазенький. Ты из климовского полка, не так ли? А помнишь, как я твою "четверку" в Орловско-Курской прикрывал, когда вы под Поыырями фашистскую танковую колонну штурмовали?
- Так точно, товарищ майор, помню.
- Вы тогда сразу три головные машины подорвали и пробку на шоссе создали.
- Так точно, товарищ майор.
- Да что ты заладил: "Слушаю", "Так точно". Мы же не на строевом смотре, а с офицерского ужина разъезжаемся. Что-то я вашего комдива Наконечникова не вижу. Прихворнул, что ли?
- Никак нет, с рассветом полк на Берлин поведет.
- А сам-то ты что хмурый такой? - внезапно спросил Кожедуб. - Может, в воздухе оплошность какую допустил? Так ты не гнись под бедой, если летун настоящих кровей. Умей из нее с достоинством выкарабкиваться. На то ты и штурмовик, воздушный боец. Ты хоть и на "горбатом" летаешь, но сам не горбись. Кстати, какой у тебя хвостовой номер? "Семерка"? Ладно, буду знать, если прикрывать придется над целью.
"Почему он так заговорил? - встревоженно подумал Вано. - Неужели слушок уже какой гулять пошел?"
И они расстались. Кожедуб подошел к другой группе отъезжающих, Вано вялой походкой угнетенного плохим настроением человека направился к автобусу, у которого его уже ожидали. Грустно подумал: "Как устроена жизнь! Этот крепыш сбил первый фашистский реактивный истребитель в воздухе, а ты, Бакрадзе, испугался атаковать новые вражеские машины на земле, ушел от цели... Памятники при жизни надо ставить таким героям, как Иван Кожедуб", И Бакрадзе еще раз самого себя спросил: "А ты?"
Местечко Найдорф, где стояли теперь штаб дивизии Наконечникова и штаб ему подчиненного климовского полка, находилось всего-навсего в каких-нибудь двадцати километрах от берега Одера - этого последнего водного рубежа на пути к Берлину. Когда усатый квартирьер старшина Немченко, добрый, покладистый полтавчанин с хитрыми, поцыгански прижмуренными глазами, впервые прибыл в это опустевшее селение с двумя рядами улиц, состоявших из однообразных красно-кирпичных домов, оно было совершенно пустынным. Подстегнутые геббельсовскими устрашающими листовками, до смерти опасаясь прихода Красной Армии, немцы, и бедные и богатые, побросав весь свой скарб, бежали на запад. Мертво чернели вывески над маленькими магазинчиками с разбитыми ветром и взрывной волной витринами. На улицах промозглый ветер ворошил кучи тряпья, разметал сено и в спешке разорванные плакаты, на которых чернела свастика, а под ней истеричный геббельсовский призыв к населению. На плакате был изображен черный человек с маской на лице, протягивающий руку вперед, и всего одно восклицание стояло под рисунком: "Тсс!", означавшее, видимо: "Берегись русского шпиона!"
Лишь в одном из самых окраинных домов старшина Немченко обнаружил пожилого немца в драном сером демисезоне, изношенной шляпе. Жестами и несколькими ему уже известными русскими словами немец объяснил, что он вовсе не боится русских, в плену у которых побывал еще в первую мировую войну, что два его сына погибли на Восточном фронте, чего он никогда не простит фашистам, и что остался здесь совершенно сознательно, хотя имел все возможности бежать вместе с другими.
Немченко недоверчиво скосил на него глаза, и под пышными его усами блеснула ухмылка:
- А ведь врешь небось, фриц? Можно подумать, что мы тебе так уж и любы.
- Найн, найн, - быстро воскликнул немец, - вы, русские, есть мне не враг.
Установив, что немца зовут Пауль, Немченко, вздохнув, ковырнул носком запыленного сапога валявшуюся у его ног сорванную или ветром, или взрывной волной с маленького магазинчика вывеску с крупными готическими буквами и прочел:
- Би-и-ир. Скажи, Пауль, а ведь это слово в переводе на русский, кажется, означает "пиво"?
- Я, я, - подтвердил немец. - Пиво, пиво ист бир.
Немченко до того выразительно провел ребром ладони по крупному своему кадыку и так же выразительно покачал головой, сопроводив все эти движения хриплым покашливанием и вздохом, что его собеседник тотчас оживился.
- Скажи на милость, Пауль, не находишь ли ты, что боевой дух старшины Немченко начинает падать и горло пересохло по той причине, что пора уже и подлечиться.
- Я, я, - просиял улыбкой тощий Пауль и двумя пальцами прикоснулся к зеленой тирольской шляпе, нахлобученной на его голову.
И они пошли по пустынной улице, время от времени заглядывая в покинутые дома, где среди прочего тряпья о распахнутых шкафах и буфетах находились запечатанные пивные и винные бутылки с разноцветными наклейками.
В дальнейшем их отношения сложились следующим образом. Быстро захмелевший Пауль, качая головой, решительно говорил:
- Найн, найн, камрад, первым открывать бутылка унд тринкен... я, потом нур ты.
Позже штабные остряки родили легенду, будто бы могучей ладонью Немченко вышибал пробку, а Пауль сначала нюхал горлышко и делал осторожный глоток. После этого боевой старшина засекал на циферблате время и, если в течение пяти минут с его новым знакомым ничего не случалось, наполнял стаканы. Рейнское вино и пиво они при этом смешивали. Бравый Немченко великодушно предложил новому своему знакомцу поменяться ролями и по очереди дегустировать содержимое бутылок, убеждаясь, что оно не отравлено. Но Пауль заполошно замахал руками и опять запричитал: "Найн, найн". В одном доме им в особенности повезло. В погребке они наткнулись на две бутылки французского шампанского и в минуту их опорожнили, причем Немченко, опровергая какие-то малость тяготившие его мысли, изрек:
- Ты как мыслишь, Пауль, ведь мы с тобой не мародеры?
- Найн, найн, камрад! - воскликнул немец и замахал руками.
- Мы же с тобой только трофеи от боя для подкрепления боевого духа используем?
- Я, я, - согласился все это прекрасно понявший Пауль.
- Война... криг... победа, а боевой дух надо постоянно держать на высоте, - заключил его покровитель.
Так они и странствовали в течение двух часов, а потом в одиннадцатом или тринадцатом доме по счету дружно пели на разные голоса "Выходила на берег Катюша". Но примчался в эту деревню Наконечников посмотреть место для нового размещения штаба и, наткнувшись на эту веселую парочку, устроил старшине свирепый разгон, в ответ на что потупившийся Немченко несмело пробормотал:
- Та я что, товарищ комдив? Та я же братские отношения с бедняцкой прослойкой, эксплуатировавшейся ихним проклятым фюрером, укрепляю, га?
И комдив рассмеялся, махнув рукой. Пауля он велел накормить и обмундировать, а старшине даже пригрозил строгой гауптвахтой, но потом остыл и смилостивился, потому что, переходя из одного строения в другое, Немченко успевал тщательно их осматривать, да еще определять, под какой отдел штаба тот или иной дом лучше подходит.
Нашлось в Найдорфе место и для Якушева с Тосей. Им отвели одноэтажный трехкомнатный дачного типа коттедж. Тот же самый квартирьер штаба старшина Немченко собственноручно выдал Вене замок-гирьку с двумя ключами и, добродушно прищуриваясь, сказал, кивая на Веню:
- Теперь вы у меня в законе. А то что же получалось до сей поры? В поночевниках числились, и только.
Они переглянулись. Оставшись наедине, Тося с задумчивой улыбкой сказала:
- Ой, Веня, ой, Веня... наконец-то свершилось, - и, как ему показалось, ткнулась ему в грудь лишь потому, что хотела скрыть набежавшие слезы.
Якушев с теплой улыбкой вспомнил, как однажды ночью, бурно его лаская, она с горечью промолвила:
- Ой, Веня, ой, Веня, как я хочу.
- Чего, милая? - обдал он ее горячим шепотом. - Ребенка?
- Нет, - стыдливо отозвалась она. - Ребенок это еще потом. Как я замуж хочу за тебя!
- Да ведь ты и так замужем, - рассмеялся Якушев. - Или я тебе не муж?
- Нет, это пока что не так, - упрямо возразила Тося.- Я по-настоящему хочу, чтобы у нас, как у всех было. Чтобы загс, брачное свидетельство, гербовая печать... праздничный ужин с друзьями, на котором твой Вано Бакрадзе был бы тамадой.
Даже в комнате, едва освещенной проступающим зоревым рассветом, он отчетливо рассмотрел в ее выпуклых глазах напряженное ожидание.
- Чудачка, - растерянно промолвил Веня. - Да откуда же тебе я здесь загс возьму? Ведь мы же от нашей госграницы почти тысячу километров оттопали.
Она огорченно вздохнула и на какую-то минуту холодно отодвинулась от Якушева. Веня обожал в Тосе эти перемены. Ласковая и покладистая, она всегда могла неожиданно вспыхнуть и стать холодной и жесткой. Ему никогда не хотелось огорчать эту женщину, так неожиданно ворвавшуюся в его жизнь, и он всеми силами старался изгнать из памяти этот ночной разговор, и это, вероятно бы, удалось, если бы не Наконечников, однажды повстречавшийся на улице Найдорфа.
- Слушай, Якушев, а ну, подойди-ка сюда, - поманил он его.
Веня приблизился, приложил ладонь к пилотке:
- Товарищ полковник, по вашему приказанию старший сержант Якушев...
- Отставить, - отмахнулся командир дивизии. - Я тебе никаких приказаний отдавать не собирался. Ты мне лучше скажи, когда баламутить окружающих прекратишь? Когда свои отношения с Тосей узаконишь? А то другие девчата-связистки уши прожужжали: ей, мол, все можно, а нам нет. Когда в законный брак вступишь?
- Так как же? - растерялся Веня. - Вы же свидетельство о браке не выдадите и печать на нем не поставите штабную.
- Нет, разумеется, - гулко отозвался комдив. - А совет дам. И считай, что это приказание. Завтра в шесть утра с нашего аэродрома пойдет на Брест Ли-2 и через пять часов будет оттуда взлетать обратно. Насколько я понимаю, в Бресте загс есть. Так вот. Чтобы вы с Тосей вечером собрались, успели к его взлету и вернулись назад на том же Ли-2. Иначе штурм Берлина без воздушного стрелка Якушева состоится. А без него трудно будет рейхстаг брать в этом фашистском логове. Так что действуй, - закончил он насмешливо.
Позабыв откозырять, Веня бросился к своему временному жилищу и еле-еле захватил Тосю, собиравшуюся на смену.
- Слушай, я тебе такое сейчас скажу! Берись двумя руками за спинку кровати, чтобы не упасть. Быстренько собирайся, мы полетим в Брест завтра в шесть утра.
- В Брест? - равнодушно переспросила Тося. - С какой это стати?
- В тамошний загс регистрироваться, - выпалил Веня и вдруг удивился тому, что она обескураженно прислонилась к дверному косяку и потрясенно всплеснула руками:
- Венька, неужели правда?
Она стиснула его шею обеими руками и вдруг расплакалась, отводя счастливые глаза, не желая встречаться с его напряженным подсмеивающимся взглядом, и Якушев, все поняв, подумал, как в свое время ей было трудно, пережив неудачную любовь, не разувериться в людях в поисках своего человеческого счастья.
Всю дорогу, пока тяжелый "дуглас" то пробивал ватные облака, то погружался в них, Якушев думал о ней, об их будущем и крепко сжимал Тосин маленький кулачок. И даже в Бресте ее не разочаровал сам предельно будничный процесс бракосочетания.
Тогда не играли новобрачным знаменитого выходного марша, не читали им традиционного поздравления, не произносила вопроса, обращенного сначала к невесте, а потом к жениху: согласны ли вы бракосочетаться с гражданином таким-то или гражданкой такой-то, не заставляли обмениваться кольцами, потому что и колец таких на всем фронте даже для двух будущих молодоженов найти было невозможно. Писарь загса просто выдал им необходимый документ и, получив положенные двадцать пять рублей, заставил расписаться в толстой книге свидетельств о рождениях, бракосочетаниях и смертях.
Рядом, получив такое же свидетельство, приглушенно разговаривали старик в потрепанной телогрейке и старуха в поношенном клетчатом платке из дешевой материи. На широкой ладони с пожелтевшей кожей старик держал горсть монет и огорченно говорил:
- Нам рубля с копейками не хватает, Марфуша, поищи еще, может, обнаружишь, да и я в карманах пороюсь.
- Да я же сказала, что нет, - таким же шепотом ответила та.
- Ох, горе наше, лыковое горе. Может, у товарища офицера попросить?
- Скажешь тоже, - вздохнула жена, но старик убежденно двинулся к Якушеву:
- Товарищ офицер...
- Я сержант, батя, - поправил Якушев, но тот лишь махнул рукой.
- Для меня все равно. Я-то не фронтовик теперь. Еще с гражданки ногу волоку раненую, так что не подошел для боев с Гитлером. Только ты пойми, сынок... Пятьдесят годов мы прожили с Марфушей душа в душу без всех этих Длинных бумаг, а теперь вот расписываться для порядка заставляют, чтобы, значит, учет по закону шел. А тут вот за регистрацию рубля с копейками нам не хватает.
- Дедушка, я сейчас, - быстро откликнулся Якушев и положил на его заскорузлую ладонь несколько бумажек.
- Здесь же много, - воспротивился было старик, но Тося решительно вмешалась в их разговор:
- Дедушка, все берите, ведь у вас сегодня такой праздник... А без бутылки вина никак не обойтись.
- Спасибо, доченька, - покачала головой старуха, - вовек тебя не позабудем.
А потом они в том же самом "Дугласе" возвращались назад, и под размеренный гул двух мощных моторов Тося думала об этой встрече.
- Веня, ведь они прожили... полвека!.. Вот бы нам так, а?
Не требуя от него ответа, она развернула плотный непритязательный листок, узаконивший судьбу их обоих, зажмуривая глаза, радостно воскликнула:
- Нет, ты только подумай, какая я теперь счастливая! Ой, какая счастливая. И это ничего, что документ на плохой бумаге, честное слово, ничего'. А слова-то какие: "Свидетельство о шлюбе". Это, разумеется, "о браке" по-белорусски.
И с тех пор, после полета в Брест, им уже ни от кого не приходилось таиться. Жили они теперь как законные муж и жена, а командир дивизии Наконечников обещал после взятия Берлина закатить "мировую", как он выразился, свадьбу.
Сегодня Тося работала в утреннюю смену и, по обыкновению, должна была находиться дома. Лишь один раз Якушев постучался в дверь, а уже загремела щеколда и его любимая с чуть тронутой ветерком перманентной прической выросла на пороге. В широких глазах появилось удивление:
- Ты? Отчего так рано? Что такое у вас там случилось?
Оказывается, по каким-то незримым каналам она уже все знала о происшествии в воздухе, о том, что их группа возвратилась на аэродром, не выполнив боевого задания.
- Ты так и назвал его трусом? - подступилась она. - Но ведь это неверно, ты не имел на это права. Бакрадзе необыкновенный летчик, мужественный боец, о нем вся дивизия говорит.
- Что поделать? - вяло вздохнул Вениамин. - Я все понимаю. У него измотались нервы, стало яростным желание жить, увидеть салюты в честь окончания войны, родителей, свою бесценную для него Сванетию. Все это убедительно. Но только с другой стороны...
- Что с другой стороны? - как на поединке спросила Тося.
- С другой стороны долг.
- И если бы ты был на его месте в пилотской кабине, то поступил бы по-иному?
- Да, Тося.
- И я бы могла тебя больше не увидеть?
- Могла бы, Тося.
- Скаженный какой! - Она испуганно охватила его обеими руками и удивленно воскликнула: - Какой же ты горячий, Венечка. Весь пылаешь. Вано бы сказал, от тебя прикуривать можно.
- Горячий? - пожал плечами Якушев. - Что за чепуха. Ну и выдумщица же ты, Тоська.
Но она, вовсе не заражаясь его шутливым настроением, обеспокоенно продолжила:
- Да нет, какая там выдумщица. Ты на самом деле горячий. Это же температура.
- Разве? - вздохнул он отрешенно и беспечно махнул рукой: - То-то я жажду стал ощущать. А впрочем, ерунда. Маленький был, иной раз в жару температура от малярии до тридцати девяти доходила, а мы на нашей Аксайской улице в футбол резались босиком и я, твой нынешний супруг, голы забивал.
- Да, да, - небрежно подхватила Тося. - Я представляю. Ты, разумеется, герой, Веня, но болтун еще большего калибра. Немного не дотягиваешь до барона Мюнхгаузена.
- Ничего, - рассмеялся тот. - Шагая по Германии, быстро дотяну. Все-таки его родина.
- Постой, я здесь где-то видела градусник. Ну-ка, измерь.
Ртутный столбик Немедленно поднялся до отметки тридцать девять, и Тося огорченно покачала завитой головкой. На Вениных щеках расцвел неестественно яркий румянец, словно на них наложили театральный грим, глаза воспаленно заблестели.
- Вот видишь, - обеспокоенно заметила Тося. - Я не 8наю, как там было у вас на Аксайской и как мой любимый хвастун забивал там голы, но сейчас ему надо лежать.
- Ты смеешься? - невесело промолвил Якушев. - Нам же с Бакрадзе взлетать в двенадцать ноль-ноль, и мне через полчаса пора уже на аэродром, иначе рейсовый автобус отойдет от штаба дивизии.
У Тоси над переносицей упрямо сдвинулись брови:
- Ничего не знаю, сейчас тебе надо лежать, а я схожу за врачом.
- Только попробуй, - угрожающе произнес Веня. - Я же сказал, что старший сержант Якушев должен лететь, и баста.
- А я сказала, что старший сержант Якушев будет лежать,- прикрикнула она и побежала в санчасть.
Седой очкастый дивизионный терапевт майор медслужбы Фельдман долго осматривал Якушева, прослушивал его грудь и легкие через стетоскоп и мрачно качал головой:
- Вы правильно поступили, Тося, его ни в коем случае нельзя выпускать в полет ни сегодня, ни завтра. Он же сознание может потерять на пикировании. Вашему молодому человеку надо немного отлежаться. Видимо, он простыл или переволновался. Порошки я захватил, вот они. Завтра утром навещу. Набирайтесь сил, молодой человек, они вам понадобятся для штурмовки Берлина. Ведь последний ваш полет станет в биографии молодой семьи Якушевых историческим. Когда-нибудь им потомки ваши будут гордиться.
В этот день все было обычно на аэродроме, за исключением того, что вместо Вениамина Якушева на самолете с цифрой "шесть" на руле поворота в задней кабине сидел новый воздушный стрелок Игорь Проушкин, о котором в полку была сложена целая легенда. Говорили, будто это был крайне невозмутимый парень, всегда демонстрировавший полнейшее спокойствие. Удивить его чем-нибудь или разволновать было почти невозможно.
Однажды пригласили Проушкина в свою компанию воздушные стрелки из другого звена. В их руки попала бутылка чистого спирта, и они решили расправиться с ней перед ужином. Один из них, старшина по званию, командовал, а все остальные подставляли стаканы. Начали с Игоря, которого старшина подверг традиционному допросу:
- В штурмовую авиацию веруешь?
- Верую, - флегматично ответил Проушкин.
- Спирт употребляешь?
- Употребляю.
- А какой пьешь? Разбавленный или неразбавленный?
- Да можно и неразбавленный, - так же флегматично протянул тот.
Старшина наклонил длинное горлышко бутылки над граненым стаканом и стал медленно нацеживать в него спирт, перед этим сказав:
- Когда хватит, скажи стоп.
Проушкин дождался, когда уровень неразбавленного спирта достиг краев стакана, и так же флегматично изрек:
- Вот теперь стоп, а то прольется.
И всем на зависть выпил все содержимое, а потом даже не потянулся за закуской, лишь корочку хлеба кем-то предложенную понюхал.
Поражал Проушкин всех и своим спокойствием в воздухе. Каким бы ни был сильным зенитный огонь противника, как бы коварно ни заходили "мессершмитты" или "фоккевульфы" в хвост, никогда его голос не отражал волнения и не вибрировал от страха.
- Ты чего, спишь? - возмущался, бывало, летчик. - Ведомые докладывают, что "мессер" за нашей машиной увязался.
- А он еще далеко и, как дохлый, телепается, - отвечал Проушкин сонно.
Но проходили мгновения, и целый каскад команд обрушивался на летчика: "Командир, десять градусов влево, пикируйте, теперь левый разворот... Вот он и проскочил. Ишь, куда запустил очереденку... Нервозный, подлец. А теперь вверх, командир, и уголок покруче... покруче говорю, если к деткам своим с войны возвернуться хотите... Вот так. Бью!"
Гремела трасса, которая проходила, как правило, совсем близко от атакующего самолета, а то и впивалась в него, дробя плоскости, кабину либо хвост. Проушкин был единственным в дивизии воздушным стрелком, сбившим четыре фашистских самолета. Как-то, когда штурмовиков отводили на недельный отдых и по приказу начальника политотдела была устроена конференция по обобщению опыта, его попросили рассказать, почему он так удачливо воюет. Сонно ухмыльнувшись, Проушкин ответил:
- А только по одной причине. Живым с войны хочу в свою деревеньку вернуться. Она у меня хорошо называется: Сердечная. И вам, ребята, того же желаю.
На том и кончилось обобщение опыта. Но было все это несколько не так. Другой человек рождался в недрах флегматичного Проушкина в бою: решительный, неустрашимый. Даже самого командира дивизии Наконечникова один раз обматерил, когда тот взял его с собой штурмовать порт Штеттин.
- Не знал, что в таком хлипком теле такой боевой дух пребывает,- насмешливо сказал ему вместо выговора потом на земле комдив Наконечников. - Да ведь в тебя, ленивца, в воздухе какой-то бес вселяется.
И на самом деле, в боевом полете Проушкин становился дерзким. Но как только завершалась успешная атака, прекращал преследование напуганный фашистский летчик, опять в наушниках у того, кто пилотировал "илбюшин", раздавался спокойный голос стрелка:
- Кажись, отстал непутевый, не понравилось... Нервенный пилот на "мессере" попался, аж теперь челюсти от скукоты ломит.
Еще говорили, что в родном селе Игоря Проушкина фашистские танкисты сожгли хату, расстреляли мать и двух братишек и, наполненный ненавистью, он всегда рвется в бой.
Вот почему Бакрадзе остановил на нем свой выбор, узнав, что Якушев заболел и лежит с высокой температурой. "Эх, Венька, Венька, до крайности жалко, что не будет тебя сегодня со мной", - думал Вано. Мысленно он уже помирился с Якушевым прочно, с грустью самому себе сказав: "Э, да что там, все было близко к истине, дрогнул я волей и рассудком дрогнул, и прав был Веня".
Боевой вылет в этот день снова был назначен на раннее утро, и в связи с этим завтракали на целый час раньше, чем было положено. Только им: четырем летчикам и четырем воздушным стрелкам - повара досрочно приготовили по бифштексу с яйцом, овощную закуску и пирожки с вареньем к какао.
Как это часто бывает перед опасным боевым заданием, ели быстро и молча. Потом шли к своим самолетам с такой же деловитой сосредоточенностью.
Утро с заблестевшим в разрывах кучевки солнцем не предвещало легкого захода на цель, потому что ветер быстро разносил облака. "Хоть бы тучки наплыли, - подумал Бакрадзе, - как хорошо было бы маскироваться. И нырнуть в них можно, и выскочить неожиданно, так что "эрликоны" и крупнокалиберные зенитки не успели бы пристреляться".
Цель оставалась прежней: тот самый аэродром, на который он не спикировал вчера, поддавшись мгновенной душевной расслабленности. Сейчас звено Бакрадзе шло в правом пеленге, чуть растянувшись, так что он уже никак не мог видеть задние машины и только по докладам Игоря Проушкина мысленно мог представлять, как идут они к цели.
Полет шел точно по расчетам, сделанным па предварительной подготовке. Слитно гудели моторы, внизу просматривалась земля, уже одетая здесь, на западе, в жгуче-зеленый цвет наступающей весны. "У нас в это время зеленый цвет травы, кустов и деревьев, он мягкий и пежный, а у них какой-то раздражающе-пронзительный, будто ядовитый", - отметил Вано.
В этот день позывные летчикам его звена выдали: "Кит-первый", "Кит-второй", "Кит-третий" и "Кит-четвертый". Внизу блеснуло небольшое озерцо, к берегу которого примыкала ромбовидная рощица, и, взглянув на стрелки часов, Бакрадзе коротко оповестил ведомых:
- Приготовиться к атаке, ребята.
Он уже увидел впереди контуры фашистского аэродрома и суетившихся на темной от леса оконечности летного поля фашистских зенитчиков. Они спешно поднимали стволы орудий. Взлетная полоса была пустой, на рулежных дорожках не было ни одного реактивного "мессершмитта", и Вано подумал о том, что немцы решили изменить тактику и расстроить их четверку одним только мощным зенитным огнем, не поднимая своих истребителей. Ромбовидная рощица, казавшаяся чопорной и строгой, как вся природа чужого этого края, вдруг озарилась желтыми огнями, и тотчас же со всех сторон четверку "илов" стали окружать все плотнее и плотнее черно-серые шапки разрывов.
Самолеты подходили к цели в их огненном кольце. Строить по-другому заход было уже поздно. Бакрадзе приказал ведомым бомбить летную полосу, и внизу, разметая бетонные плиты, всколыхнулись взрывы.
- Отлично, ребята! - прогремел в наушниках его голос у каждого идущего в пеленге летчика. - Теперь ни одна сволочь не взлетит с этого аэродрома!
Но в ту же минуту штурмовик будто бы чей-то неимоверно сильной рукой сначала мощно подбросило вверх, а потом кинуло вниз, так что Вано еле-еле успел удержать свой "ил" рулями. Его голова наполнилась звоном, стало горячо и сухо во рту. Запах дыма, в происхождении которого Бакрадзе уже ни на секунду не мог сомневаться, опахнул лицо. И снова блеснула за плексигласом кабины вспышка, и целый столб огня и дыма поднялся над капотом мотора.
- Командир, мы горим! - крикнул по СПУ Игорь Проушкии сухим напряженным голосом. - Какое решение, командир?
- Прыгай, Игорь, прыгай, может, еще выкрутишься!
- А вы, командир? - быстро спросил стрелок.
- Остаюсь с машиной. Прыгай!
Бакрадзе старался скольжением сбить пламя, розовым растрёпанным шлейфом потянулось оно за невидимым летчику хвостом "ила". Радиостанция еще работала, и Вано крикнул ведомым сквозь огонь и дым:
- Ребята! Атакуйте их, гадов. Идите на новый заход!
- А вы? - пробился сквозь удушливый дым голос его верного ведомого Славы Овчинникова.
- Остаюсь с машиной... Проушкин, выпрыгивай, приказываю!
- Я тоже с вами, командир, - послышался твердый голос Игоря. - Не могу я вас покинуть. Вместе так вместе.
Бакрадзе разглядел капониры, в которых стояли забросанные ветками реактивные "мессершмитты".
Отвечать он уже не мог, все кружилось перед глазами, одеваясь розовой пеленой слабости.
...Говорят, что минута - это короткий отсчет времени. Но сколько можно за нее увидеть, пережить и передумать, если она последняя в твоей жизни! Разорванным вихрем проносились перед глазами Бакрадзе мысли и воспоминания. В одно мгновение он представил родное селение в далеких горах Сванетии и отца, всегда учившего заповеди: "Если ты сын горца и сам горец, то будь до конца мужчиной, сынок, пока бьется пульс и отсчитывает удары твое сердце". "Прыгать? - обожгла его и другая мысль.- Попасть в руки фашистов на пытки при слабой надежде на побег и быть в конце концов замученным в самые последние дни войны?.." Как мало этих скользящих в памяти мгновений, оставшихся лишь для того, чтобы он, Бакрадзе, мог доказать всем, всем, кто его знал, что не трус он и не зря носил пятиконечную Звезду Героя, которую всегда так старательно скалывал, прежде чем садиться в кабину "ила" и улетать в бой!
А дымный след все ширился и ширился за хвостом "шестерки", и уже злые искры мелькали в нем.
Еще работало самолетное переговорное устройство, и он, уже ни о чем не моля воздушного стрелка, соглашаясь с его решением как с суровой неотвратимой правдой, жестко выкрикнул:
- Выхода нет, Игорь. Пусть знают, сволочи, военнопленных Бакрадзе и Проушкина у них не будет.
Вторая кабина не сразу ответила слабеющим голосом воздушного стрелка:
- Командир, простите... истекаю кровью... я ранен. Борт самолета не покину. Я с вами!
И тогда из последних сил отжал от себя ручку Вано Бакрадзе. А дымный шлейф все пушился и пушился за его обреченной машиной. Земля стремительно рванулась навстречу вместе с плоской крышей длинной постройки, окруженной штабелями зенитных снарядов и капонирами с видневшимися в них реактивными истребителями с белыми кругами на крыльях и свастикой, заключенной в них.
"Тут у них склад боеприпасов", - пронеслось в слабеющем рассудке Вано Бакрадзе, и это была его последняя мысль...
Берлин был взят. Над рейхстагом теплый майский ветер колыхал алое знамя с серпом и молотом, поднятое советскими богатырями русским Егоровым и грузином Кантария. Дивизия Наконечникова перебазировалась на новые аэродромы, расположенные южнее фашистской столицы.
"Виллис", в котором кроме водителя, мрачноватого полтавчанина Семена Гриценко, ехали только Якушев и Тося, мчался по автостраде. Так уж случилось, что последнее свободное место было в нем занято коричневым несгораемым сейфом. На протяжении всего пути молодожены не переставали держать друг друга за руки и обменивались короткими улыбчивыми взглядами, за которыми ой как много стояло только им одним понятного.
Несмотря на то что в его планшетке была довольно убедительная карта-двухкилометровка, Веня ухитрился заблудиться и на целые пятнадцать километров отклониться на север от маленького городка, близ которого находился аэродром, куда передислоцировался их полк. Стали сгущаться сумерки. Опрокинутое над всей Германией молчаливо-черное небо сеяло нудный дождь.
Надо было бы еще один раз уточнить дорогу, но, как назло, пи одна армейская машина их не обогнала и ни одна не попалась навстречу. Потеряв всякую надежду восстановить ориентировку, Веня приказал шоферу затормозить на окраине города, возле серого особняка с балконом и овальными окнами, в которых горел свет.
- Слава богу, дожили до победы, - сказала Тося, - даже и в Германии уже отменена светомаскировка.
- Дожили, да не все, - печально заметил Веня, и она сразу поняла, кого он имел в виду.
- Не надо... Его уже не воскресишь, - прошептала она, склонившись к его щеке. - Может быть, это и жестоко, но я женщина, Веня, и жизнь любимого для меня дорога. Если бы не приступ малярии и не запрет врача появляться на аэродроме, тебя бы не было со мной рядом.
- Подожди, Семен, - сказал Якушев водителю. - Я схожу сейчас на разведку.
- А я тебя одного ни за что не отпущу,- решительно восстала Тося. - У меня ведь тоже в кобуре заряженный ТТ.
- Ну пойдем, - согласился Якушев, но шофер неожиданно запротестовал:
- У меня все-таки автомат, мало ли к каким немцам попадем. Если что, очередь из него понадежнее прозвучит.
- Спасибо, Семен, лучше машину покарауль, потому что в сейфе документы. Мы и сами управимся, - проговорил Веня, и они пошли.
В тишине гулко прозвучали их шаги по цементным ступенькам парадного входа, над которым нависала облупившаяся от ветров и дождей сероцементная фигура атланта, удерживающего балкон бельэтажа. Веня поискал глазами звонок и, не найдя, постучал в дверь с резными украшениями рукояткой пистолета ТТ. Не прошло и минуты, как где-то в коридорной глубине послышались легкие шаги и старушечии голос нараспев произнес, как это делают одни только немцы:
- Мо-о-мент.
Защелкали затворы, и дверь со скрежетом отворилась. Не выразив никакого опасения, страха или даже удивления, худая старая женщина в черном платье, с седыми буклями па голове, распахивая дверь, равнодушно сказала:
- Битте шён, вас воллен зи?
- Битте, фрау, штрассе нах флюгплац?
- О! - закивала, улыбаясь, немка. - Коммен... дорт майн манн.
И, освещая свечой дорогу, стала подниматься по винтовой деревянной лестнице. Потом она открыла на верхнем этаже массивную дверь, и через обширный холл они увидели большой зал с картинами в позолоченных багетах и старомодной, очень затейливой и, видимо, довольно редкой мебелью, письменный стол, украшенный на углах гривастыми львиными барельефами, вместительный книжный шкаф и портрет женщины на стене, чем-то похожей на сопровождавшую их старую немку, только молодой и красивой.
В этой высокой комнате со сводчатым потолком казалось безнадежно затерянным плетеное кресло-качалка, в которой сидел худой, высохший старик с жидкими седыми волосами и розовой лысинкой, проглядывающей сквозь них. Рядом у его ног лежал на ковре посох с серебряным набалдашником. Пристально посмотрев на вошедших, он вдруг проговорил ясным и твердым голосом на чистейшем русском языке, без всякого акцента.
- Здравствуйте, храбрые воины Красной Армии. Честь имею приветствовать вас в своей скромной родовой обители. - Старик без восторга, но и без ненависти пристально поглядел на них. На его худощавом голубоглазом лице была только боль, грусть и усталость. - Разрешите представиться. Бригадный генерал в далеком прошлом барон фон Флеминг. За Гипденбурга воевал, скрывать не стану, к Гитлеру и его вермахту никакого отношения не имею. Готовя меня к войне с Россией царя Николая Второго, мой папаша изрядно позаботился о своем сыне. Русскую литературу от Карамзина до Маяковского включительно знаю безупречно. Русский язык так же. К большевикам больших претензий никогда не имел, потому что они шли своей дорогой, так же, как я своей. Сущность мировоззрения этого безграмотного ефрейтора Гитлера и его клики всегда понимал, иначе бы не оплакивал этот портрет.- И старик кивнул на черный багет, заключавший в своем прямоугольнике увеличенную фотографию фашистского генерала с эсэсовскими эмблемами.
Якушева приковал к себе поворот головы, крутой лоб, рассыпанные над ним чуть вьющиеся волосы и глаза, дерзкие, вызывающие.
- Как видите, - продолжал старик, - паралич мешает мне приветствовать вас стоя, господин офицер.
- Старший сержант, - поправил Веня.
- Ничего, еще будете и офицером, - улыбнулся старик. - У вас все впереди. У вас будущее и, если верить крылатой фразе Наполеона, маршальский жезл в вашем ранце.
- Когда же случилось это несчастье? - спросил Веня, глазами указывая на траурный портрет молодого генерала, чтобы хоть как-нибудь заполнить паузу, назревшую в их разговоре.
- Паралич меня разбил двадцатого сентября сорок третьего года, когда я узнал о расстреле моего сына генерала СС Вальтера Флеминга.
- Вашего сына расстреляли? - удивился Якушев. - За что же?
- За то, что он был среди тех офицеров и генералов, которые пытались совершить покушение на Гитлера, после вашей победы в Орловско-Курской операции. Они уже тогда видели печальную перспективу краха нашей армии, оказавшейся под владычеством Гитлера, этого зарвавшегося дилетанта и психически ненормального человека, хотя и не лишенного дарования.
Веня усмехнулся, но оставил без внимания последние его слова. "Бог с ним, поздно перевоспитывать этого странного старика".
- Флеминг, Флеминг, - озадаченно, но не убежденно, еще не доверяя своей памяти, повторил Веня. - Скажите, а не служил ли ваш сын в сорок втором году в Новочеркасске в гестапо?
Водянистые глаза человека, сидевшего в кресле-качалке, неожиданно вздрогнули, и синие веки над ними поднялись выше.
- О да! - воскликнул старик. - Мой сын действительно служил в этом городе. Но откуда вы об этом знаете?
- Я родился в Новочеркасске, - заволновался Веня. - Я был там после изгнания оккупационных войск... Отец... мой отец Александр Сергеевич Якушев вызывался к нему на допрос и потом уверял меня, что ваш сын был благородным человеком. Вот как, господин Флеминг, оказывается, пересекаются людские судьбы.
Старик пожевал сухими бескровными губами, лоб его покрылся мучительными морщинами.
- Да-да,- заговорил он вновь, не в силах преодолеть беспокойства. - Вы правы, мой сын действительно писал о каком-то старике педагоге, с которым ему было крайне интересно беседовать. Его, кажется, действительно звали Александр Сергеевич. А вы? Вы, значит, его сын? Марта, Марта! - закричал он, волнуясь, и, когда старенькая немка приблизилась, потребовал, чтобы она принесла кофе и четыре рюмки ликера. - Мы вместе выпьем за то, что отгремели последние залпы этой страшной войны... Ко мне уже не возвратятся силы, и недолго осталось ходить по земле, но, когда я уйду в лучший мир, обещай торжественно, Марта, что ты обязательно побываешь в Новочеркасске, чего бы это ни стоило, чтобы поклониться тем улицам и площадям, по которым ходил наш сын, мечтавший об уничтожении Гитлера и гитлеризма. Обещай же, Марта, исполнить мой завет при этих славных ребятах.

|
ПОИСК:
|
© ROSTOV-REGION.RU, 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://rostov-region.ru/ 'Достопримечательности Ростовской области'